Охота как образ жизни. Сборник рассказов
Охота как образ жизни
Охота. Охота, – это не просто развлечение, как думают многие молодые, причислившие себя к когорте охотников.
Нет. Охота, – это, скорее, образ жизни. Да, это образ жизни. На каком-то отдельно взятом промежутке времени, когда человек, отрешается от всего суетного, земного, он попадает туда, в тот мир, параллельный мир, где все законы, вся физика действуют совсем иначе.
И вот, чтобы вернуться из того, параллельного мира, вернуться к нормальной, мирской суете, необходимо много знать.
Нужно изучить правила и способы охоты, нужно узнать, изучить места, где собираешься охотиться: леса, поля, горы, болота. Знать экипировку охотника, изучить оружие.
Завести напарника. Да, напарник, если хотите, друг, – на охоте, просто необходим. Даже если за всю вашу охотничью жизнь вы ни разу не попадёте в критическую ситуацию, хотя бы будет перед кем похвастать удачным выстрелом, трофеем. Особенно в молодости, – это не маловажно.
А если вы случайно провалились, хоть в болото, хоть на тонком льду, при переходе речки, тут уж точно, напарник совершенно необходим.
Конечно, речь не идёт о профессиональных охотниках. Там по технике безопасности вас не выпустят в тайгу одного. Хотя прекрасно понимают, что по тайге охотники парами не ходят. Но, на то они и профи, что могут твёрдо контролировать ситуацию. Могут помочь себе сами, когда случится беда. А самые опытные, не допустят никаких просчётов, не допустят беды.
Много лет мне пришлось жить и работать в разных регионах Сибири и Дальнего Востока. Работать именно со штатными, профессиональными охотниками. Очень серьёзные люди встречались, знающие своё дело до тонкостей, до мелочей.
Например, – бригада тигроловов: братья Кругловы, из Хабаровского края. Вспоминаю их только с теплом в душе. Это величайшие профессионалы, мастера своего дела, настоящие охотники.
Это, какими надо быть мастерами, чтобы где-то в тайге, в глухомани, гнаться день и ночь за семьёй тигров, преследовать их беспрестанно, потом, всё же отринуть, отогнать тигрицу от своих детёнышей, чтобы она не помешала поймать котят.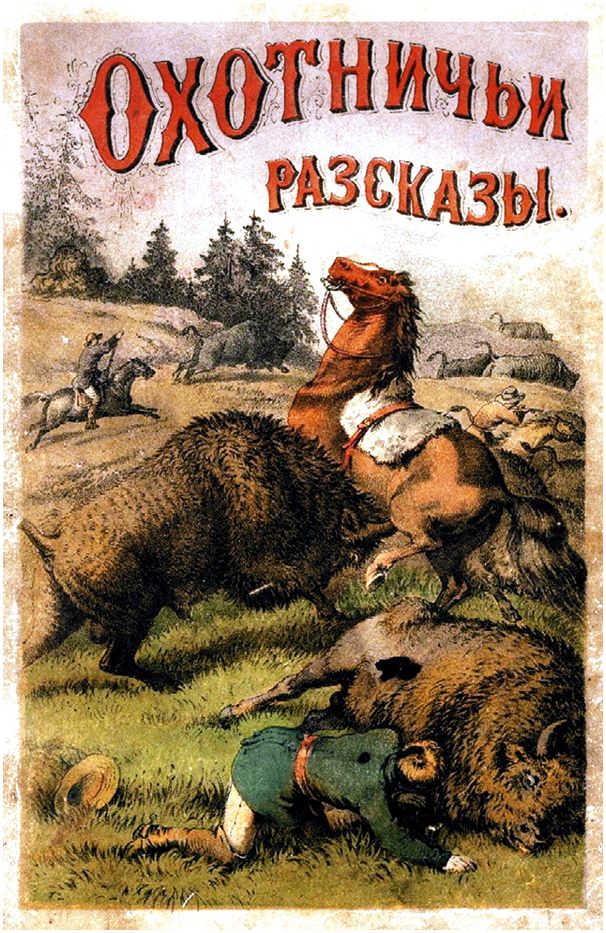
Какие уж там котята, когда каждый весом более сотни килограммов. Да при одном только неверном движении такой котёнок может расправиться с охотниками легко. Это им, охотникам, нельзя убивать, а ему-то можно.
Однажды, один из братьев, – Владимир, тащил на своей спине отловленного, связанного и притороченного к паняге кота. Тяжесть, как я уже упомянул, приличная. Да и сам Володя, – хоть поставь, хоть положи, – силушки не занимать. Они вытаскивали этого кота к дороге, где их поджидала машина.
Проходя по руслу замёрзшей реки, под таким грузом, Владимир провалился. Он улетел под лёд вместе с панягой, на которой рычал драгоценный груз.
Напарники, конечно, тут же выдернули его из воды, но спасать стали кота, прочищая и продувая ему ноздри, протирая намокшую шерсть. Только потом развели костёр и стали сушить охотника.
Очень дорого достаётся и ценится каждый отловленный тигр.
Или Степан Зырянов,– штатный охотник Восточной Сибири, соболятник. Для него не было даже малейшего секрета в своей профессии, который бы остался им не раскрыт. Он знал о жизни в тайге всё. И всё умел.
Он знал о жизни в тайге всё. И всё умел.
Много, очень много истинных лесовиков, правдашных охотников бродит по тайгам. И большое им спасибо, что науку ту, науку охоты, промысла, они не прячут. Сколько знал добрых охотников, – все таскали с собой молодого напарника, учили уму-разуму, таёжному ремеслу.
Да и в школах сельских, особенно таёжных, на внеклассных занятиях преподавался предмет, который так и назывался: охотничье дело.
Теперь этого нет. А стать охотником, хлебнуть этой романтики, хотят многие. Мало-мало охотминимум выучат, получат билет, и всё, беги, охоться.
А столько опасностей поджидает молодого романтика на тропе охоты, столько, что и не решишь сразу, с какой начать рассказ.
Вот, к примеру, спички. Очень важная часть экипировки охотника. Сейчас можно купить, без особых трудностей, самые навороченные зажигалки, непромокаемые спички, и прочее. Но, главное, чтобы они были у вас, в нужном месте и в нужное время. И не подвели.
Я всегда имел при себе коробок спичек, запаянный в целлофан. За много лет скитаний по тайге, горам, тундре, я ни разу не воспользовался этим коробком, но он был всегда в боевой готовности. Это не значит, что за сорок лет экстрима я не тонул, не проваливался, не попадал в другие сложные ситуации, где срочно нужен был костёр. Конечно, попадал, и тонул, и проваливался. Но получалось, что костёр разжигал другим коробком, который тоже был в укромном месте, тоже надёжно спрятан. И это правильно. Настоятельно рекомендую иметь при себе несколько источников огня. Это может избавить вас от многих неприятностей, а тяжести от лишнего коробка спичек, – чуть.
За много лет скитаний по тайге, горам, тундре, я ни разу не воспользовался этим коробком, но он был всегда в боевой готовности. Это не значит, что за сорок лет экстрима я не тонул, не проваливался, не попадал в другие сложные ситуации, где срочно нужен был костёр. Конечно, попадал, и тонул, и проваливался. Но получалось, что костёр разжигал другим коробком, который тоже был в укромном месте, тоже надёжно спрятан. И это правильно. Настоятельно рекомендую иметь при себе несколько источников огня. Это может избавить вас от многих неприятностей, а тяжести от лишнего коробка спичек, – чуть.
Расскажу один случай. Участок, где мы с напарником охотились, изобиловал мелкими, не замерзающими по всей зиме речушками. Они по всему руслу имеют донные родники, и даже в самые сильные морозы не перехватываются. Так, чуть закрайки распустят, и те слабые, – вес охотника не выдерживают.
Незамерзающие реки, протоки, очень неудобны при ходовой охоте. Когда ещё капканишь, по стационарному путику ходишь, – ещё терпеть можно. В этом случае заранее переправы готовишь, даже летом. И то, приходится останавливаться, снимать лыжи, переправляться, снова надевать лыжи. Это напрягает.
В этом случае заранее переправы готовишь, даже летом. И то, приходится останавливаться, снимать лыжи, переправляться, снова надевать лыжи. Это напрягает.
Ещё более напрягает, когда ты в свободном полёте, – охотишься с собаками. Соболя гонят, а он не смотрит, вода, не вода, – переплыл, причем, очень шустро и уверенно, и дальше. Собаки за ним. Следом охотник, – не кинешься в воду, не поплывешь. Переправу ищешь, хоть какую, хоть самую тоненькую жердушку, чтобы по ней перескочить, перелететь. А собаки там уже расстилаются, не велят мешкать, душу в клочья рвут.
Торопливо, с припрыжкой летит охотник по берегу, в поисках хоть жиденькой, хоть разовой переправы.
Так вот, однажды, проверяя капканы, в январе месяце, перебираясь по хорошо утоптанной переправе, излишне опёрся на слегу и она треснула.
Слега, – это жердушка такая, как посох, только побольше и длиннее. С ней, слегой, переходишь речку по бревну. Упираешься этой слегой в дно реки и, не очень легко, но перебираешься. Другой рукой придерживаешь лыжи, рюкзак-панягу, ружьё и посох.
Другой рукой придерживаешь лыжи, рюкзак-панягу, ружьё и посох.
Слега должна быть надёжная. Она должна служить только один сезон. А эта, – бес попутал, работала уже вторую зиму. Жердушка была крепкая, упругая, как показалось, – надёжная. Всю осень ходил с ней, да и половину зимы, – не подводила, – видимо ждала более подходящего момента. И дождалась.
Температура далеко ниже тридцати, поздний вечер, до зимовья около трёх километров, – лёгкий хруст и я лечу в ледяную воду вперёд спиной.
Ухнул, конечно, с головой. Правда, ни лыжи, ни ружьё не выпустил. Глубина, – по грудь. Пока выбрался, – конечно, промок.
Как же я был благодарен напарнику, за ту кучу валёжника и сучьев, которую он наворотил ещё три года назад, когда мы только делали эту переправу. Он расчищал место, и всё складывал в кучу на берегу. А ещё и внутрь запихал здоровенную берестину, скрученную как папирус.
Приседая у этой кучи, чтобы поджечь ту самую берёсту, я услышал, как хрустит на мне одежда, – моментально замёрзла. Спички, спрятанные в самый дальний, внутренний карман, – не промокли, заработали сразу.
Спички, спрятанные в самый дальний, внутренний карман, – не промокли, заработали сразу.
Отогревшись у хорошего, большого костра, высушив штаны и куртку, выскоблил ножом лыжи и благополучно пришлёпал в тёплое зимовьё.
Напарник уже был обеспокоен.
История и неказистая, но внимания заслуживает. Можно сделать немало выводов.
* * *
Таёжная охота, – это совсем другое, не схожее с общепринятым понятием. Это даже и не охота, а, скорее, промысел. Да, ведь на промысле мало задумываешься о красоте процесса, и даже эстетическая составляющая, несколько притупляется.
Какие уж размышления о правильной охоте, о любовании природными прелестями, когда в кармане лежит наряд – задание, где чётко расписано, что ты должен добыть столько-то соболей, столько-то белок, норок, рябчиков и прочих. И хорошо бы побольше, а ещё лучше, – ещё побольше.
Это теперь, «государю-батюшке», не очень нужны огромные кучи золота, в виде дикой пушнины. А во времена «развитого социализма» каждая, самая малая шкурка была составляющей государственного плана.
Охотники промысловики были в чести и почёте. Пользовались серьёзными льготами.
Молодых охотников серьёзно обучали ремеслу. Потом отправляли на сезон, а то и на два, в паре с опытным охотником. Наставнику предприятие платило деньги за обучение. И только потом, через несколько лет, молодой охотник получал свой участок тайги, обустраивал его и охотился там всю жизнь. Так было.
Обустройство участка, – это отдельная история. Предприятие, где охотник работает, отправляет его в тайгу, на свой участок в летний период, для строительства зимовий, прокладку троп, устройство путиков. Подготовка к зимнему сезону. За всю выполненную работу предприятие ещё и деньги платит.
А вот где строить зимовья, как прокладывать капканные маршруты, в каких местах соорудить переправы, – это решает сам охотник, – для себя же делает.
Расскажу один случай, связанный со строительством зимовья. Вернее сказать, с умением правильно выбрать место под строительство.
Два молодых охотника получили в пользование участок. В то время участки таёжные закрепляли сроком на пять лет. Потом акт закрепления продляли, если не было грубых нарушений в пользовании.
В то время участки таёжные закрепляли сроком на пять лет. Потом акт закрепления продляли, если не было грубых нарушений в пользовании.
Летом напарники, определив по карте примерное место строительства зимовья, отправились в тайгу.
Прибыли, осмотрелись, выбрали место, где густовато рос добрый ельник. С каждой лесины можно выкроить три, а то и четыре бревна. И река рядом, – хоть на лодке подъезжай, хоть зимой по воду иди. Всё хорошо. А ещё мох завидный устилал все окрестности. Сорвёшь его охапку, уткнёшься лицом, и отрываться не хочется, прямо обволакивает.
Клади этого мха между брёвнами поболе, – ох тепло будет зимой.
Правда, место, будто бы низковато, – берег-то наволочный. Противоположный берег реки высокий, даже чуть скалистый, а этот пологий. Зато стройматериал весь рядом, – удобно очень.
Построили.
Осенью, как положено, заехали на лодке, привезли всё необходимое для зимовки, обжились в новом зимовье. Охотились да радовались, что ладная жилуха получилась, тёплая. Правда, место темноватое, – урёмное, солнышко из-за ельника лишь к вечеру выбирается.
Правда, место темноватое, – урёмное, солнышко из-за ельника лишь к вечеру выбирается.
А беда прикатила лишь тогда, когда морозы крепкие начались.
Река начала вставать, захлёбываться своей же шугой, забивать, запечатывать этой шугой русло.
И вот, однажды ночью, русло реки совсем переморозило. Такое бывает в горных реках. Сперва дно покрывается рыхлым матовым льдом, потом закрайки срастаются с донным льдом. Напор воды тогда усиливается, шум стоит на всю округу. Кто знает, тот обеспокоится, – заранее уберётся от взбесившейся реки.
И соболь в это время уходит из поймы, и белка, а уж копытные, – те в первую очередь идут на возвышенности.
Река шумела, напирала, бушевала там, подо льдом, но мороз оказался сильнее. Он каждый год оказывался сильнее. И вода, преодолев ледовые барьеры, отыскав трещины и разломы, вымахнула наружу, расплылась по своему же льду, широко разлилась, потекла вспять, торопливо заливая пологий, наволочный берег.
Охотники проснулись оттого, что со свистом зашипела печка, моментально наполняя зимовьё густым, влажным паром. Вода прибывала быстро. Стало очень холодно. Печка скрылась и перестала шипеть, вода подступала к уровню нар.
Вода прибывала быстро. Стало очень холодно. Печка скрылась и перестала шипеть, вода подступала к уровню нар.
Кое-как одевшись, охотники выбрались и обнаружили, что идти некуда, – кругом вода.
Забрались на зимовьё, вытащили трубу. Разрубили её вдоль и устроили на одном углу зимовья подобие кострища. Разбирали крышу, потолок, и очень экономно жгли костерок, у которого грелись остаток ночи и весь следующий день.
Только к вечеру того дня уровень воды начал резко снижаться, – видимо где-то промыло. Остатки воды быстро превращались в лёд.
Из зимовья, через порог, вода не ушла. Так и замёрзла вровень с печкой.
Охотники, нагрузив рюкзаки, утащились в другое зимовьё. Выходить из поймы тоже было не просто. Вода, хоть и ушла, но лёд, в основном, держался панцирем между деревьями, кустами. Вес человека этот панцирь не выдерживал, так как имел толщину до пяти сантиметров. Продвигаться было очень не просто. Каждым шагом приходилось обрушивать нависший лёд.
Кроме всего прочего, парни получили серьёзную психологическую травму. Ведь это даже представить сложно, как они сидели на крыше зимовья, ночью, в полной темноте, а кругом с неимоверным шумом лились потоки зимней воды. И никто не знал, до какой отметки поднимется уровень.
Ведь это даже представить сложно, как они сидели на крыше зимовья, ночью, в полной темноте, а кругом с неимоверным шумом лились потоки зимней воды. И никто не знал, до какой отметки поднимется уровень.
Так что, в пойменном лесу зимовьё лучше не ставить, особенно, если река горная.
***
Охота, – сколько манящих, мучительных желаний вызывает это слово, как оно тревожит, как сладко дурманит.
Помню, ещё ребёнком был, – хотя, по тем временам уж и не сильно ребёнком, – десять лет исполнилось, – отец на охоту брал. Боже мой, какое это было счастье! Выдавал мне одностволку, 32го калибра, с надтреснутым прикладом, перемотанным медной проволокой, и два патрона.
Ах, как было жалко, что уходили мы из деревни по темноте, – друзья не видели, вот жалость!
А на болоте, – да разве может хоть что-то сравниться в эстетическом воспитании подростка, как время, проведённое на природе, рядом с Отцом, рядом с Наставником. Кто это испытал, тот наверняка понимает, какая это ценность, какой это заряд на всю жизнь. Как бережно и заботливо относятся потом эти люди к старшему поколению. Да и не только к старшему, любовь к природе рождает всеобщее человеколюбие. Рождает трепетное отношение к себе подобным.
Как бережно и заботливо относятся потом эти люди к старшему поколению. Да и не только к старшему, любовь к природе рождает всеобщее человеколюбие. Рождает трепетное отношение к себе подобным.
Отец по профессии был педагогом, – воспитателем в школе-интернате. Почти на все выходные он выводил своих воспитанников в лес, на озёра. Они там жгли костры, беседовали на самые различные темы. Иногда делали вылазки на охоту.
Сколько же писем получал отец от выпускников! Какие теплые слова они ему высказывали в тех письмах. Какими хорошими, настоящими людьми они стали.
Я, получив полновесную отцовскую прививку, сделал охоту своей профессией. Уже более сорока лет занимаюсь охотоведением и ни разу не пожалел о своём выборе.
Учился на охотоведа в Иркутске. Прекрасные преподаватели, руководители, истинные знатоки своего дела. Посчастливилось захватить то время, когда лекции по охране природы нам читал сам профессор Скалон Василий Николаевич. Именно он, с соратниками, стоял у истоков охотоведения, как науки. А мне вдвойне свезло: он был моим руководителем дипломного проекта. Легенда!
А мне вдвойне свезло: он был моим руководителем дипломного проекта. Легенда!
А как мы, студенты, горели этими практиками, как мы стремились попасть в самые экзотические места нашей огромной, просто необъятной, и такой разнообразной, Великой Страны. Ехали и в южные республики, и в Якутию. Очень популярны были Саяны, особенно Тофалария. Прекрасные горы, восхитительные реки, удивительное разнообразие животного мира. Хорошие, доброжелательные люди, – тофалары.
Добраться в Тофаларию, в то время, тридцать семь лет назад, можно было только с помощью малой авиации. Правда, самолёт, АН-2, ходил регулярно. Помешать могло лишь отсутствие лётной погоды.
Как же они, бедные, сейчас там живут?
Побывав в этих горах однажды, непременно захочешь окунуться туда ещё. Очень красивые, насыщенные удивительной жизненной энергетикой, места. Незабываемая рыбалка, ягоды, кедровые орехи, а какая великолепная охота.
А по ночам во всех распадках ревут изюбри, – начинается гон. И, хоть как устанешь за день, ночные трубные звуки отгоняют сон, будоражат сознание.
Были интересные экспедиции на Сахалин, где пришлось почти всей группой работать на рыбокомбинате. Хотя ехали туда с надеждой, что будем зачислены в штат рыболовецкого сейнера.
Только нескольким счастливчикам удалось попасть на остров Медный, и участвовать там, в промысле морского котика.
Очень интересной была экспедиция студентов на полуостров Таймыр. В то время там, недалеко от города Норильска, открывалось государственное промыслово-охотничье хозяйство, – госпромхоз. И вот, мы, получив статус студенческого строительного отряда, прибыли в посёлок Валёк, прибыли полные энтузиазма и неуёмной энергии. Как было здорово осознавать, что и частичка нас, вложена в устройство жизни на самом краю, на самой окраине нашей Великой и необъятной Родины.
И, пожалуйста, не думайте, что это всё нам доставалось так легко и просто, как тут повествуется. В любой отряд или группу, попасть было очень проблематично. Почти всегда на такую практику приходилось уезжать гораздо раньше, чем начиналась сессия. А это значит, что все экзамены, зачёты, и прочее, нужно было сдавать досрочно. А это ведь было время развитого социализма, – за деньги экзамен не сдашь, не то, что теперь.
А это значит, что все экзамены, зачёты, и прочее, нужно было сдавать досрочно. А это ведь было время развитого социализма, – за деньги экзамен не сдашь, не то, что теперь.
Приняли нас там, в новом госпромхозе, хорошо, как своих. Да мы и были своими, помогали, как могли. Вскоре получили лодки, моторы, продовольствие, загрузили всё это на баржу, документы получили, и отбыли почти в самое устье реки Пясина, на промысел северного оленя.
Там, в тундре, строили из привезённых материалов склады для мяса, себе строили землянки, вгрызаясь в мерзлоту, ставили палатки для столовой и просто первой необходимости. Начинали охоту.
Охота там, на Таймыре, на оленя, вообще-то больше напоминает просто заготовку мяса. Да, почему напоминает, так оно и есть на самом деле. Суть самой охоты заключается в том, что группа оленей переплывает реку, в это время их закруживают на лодке и стреляют тех, которые подходят по возрастной сетке.
Отстрелянных оленей связывают десятками и отпускают по течению, где их вылавливают и обрабатывают.
Романтики мало, но работа нужная и тяжёлая. Почти за месяц работы мы добыли и разделали более трёхсот голов дикого северного оленя.
В свободное от основной работы время, некоторые студенты занимались рыбалкой. По реке, к тому времени, пошла шуга, и хариус забивался в заливы, под тонкий лёд. Мы выползали на животе на этот лёд, продалбливали его ножом, и ловили отменных хариусов.
Когда закончились продукты, а из-за плохой погоды вертолёт не мог работать, некоторое время жили только на мясе, да рыбе. С голода, конечно, не пропадали, но о горбушечке хлеба вспоминали часто. И совсем стало невмочь, когда закончилась отрава, – папиросы.
Но, закончилось всё хорошо, все живые и здоровые вернулись в родной Иркутск, за парты, продолжили обучение. И уже намечали новые маршруты, новые горизонты, новые, трудные, но интересные места.
Одна из следующих экспедиций состоялась в Ханты-Мансийский национальный округ. В то время там, в самом разгаре шло освоение газовых и нефтяных месторождений. И мы ездили туда с целью хоть как-то отразить для общества проблему охраны природы в округе, и собрать необходимый материал для дипломных работ.
И мы ездили туда с целью хоть как-то отразить для общества проблему охраны природы в округе, и собрать необходимый материал для дипломных работ.
Очень понравились хантыйские лыжи. Они особой конструкции. Дело в том, что место, где стоит нога, особым образом возвышено, приподнято над остальной площадью лыжи. Это позволяет снегу, попавшему на верхнюю поверхность лыжи, просто скатываться при ходьбе, не попадая под подошву охотника и не образуя натоптышей. Нужная и удобная деталь. И ещё, – кольцо для обуви делается жёсткое, что придаёт заметное удобство при ходьбе, особенно при резких поворотах. Очень удобные лыжи, проверенные веками.
На ногах специальная обувь для ходьбы на лыжах, – «нярки». Всё продумано, просто и очень удобно. И нет в этом ничего необычного, всё это просто образ жизни.
Да и не может быть иначе: если ты собрался в страну с названием «ОХОТА», постарайся изучить эту страну, понять её, принять. Только тогда ты, человек, сможешь стать следопытом, сможешь понять саму цель и суть охоты. Ты сможешь стать не убийцей, а добытчиком, станешь Охотником, и будешь гордиться этим званием всю жизнь. Будешь с трепетом передавать свои знания и умения детям и внукам.
Ты сможешь стать не убийцей, а добытчиком, станешь Охотником, и будешь гордиться этим званием всю жизнь. Будешь с трепетом передавать свои знания и умения детям и внукам.
Тайга – это моя жизнь. Приключения на охоте и рыбалке
© С. А. Лобов, 2017
ISBN 978-5-4483-9131-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ОТ АВТОРА.
С годами я всё чаще стал вспоминать прошедшие годы и те случаи, которые произошли со мной в далёком прошлом. Что удивительно, передо мной возникали картины, как будто это было вчера, а не много лет назад. Я ясно представлял себя и своих друзей на природе, когда мы ездили в тайгу на охоту или рыбачили на озере. Порой задумавшись, я вспоминал своих одноклассников и их характеры, а также во что мы были тогда одеты. А те разговоры, которые происходили возле костра и шутки друг над другом помню до сих пор. Поэтому я решил написать эти рассказы, чтобы сохранить память о тех временах и своих друзьях. Когда мне исполнилось пять лет, папа стал брать меня с собой на сенокос, который находился далеко от села в тайге. Работа на сенокосе зависела от погоды, поэтому нам приходилось долго жить в лесу. Тогда не было машин, мы добирались до своего участка на мотоцикле с люлькой по очень грязной и заболоченной дороге. Косили и собирали сено вручную и для того, чтобы заготовить корм скоту приходилось работать с раннего утра до позднего вечера. В своих рассказах я вспоминаю это время, прожитое на сенокосе, где начал охотиться и рыбачить на речке. В двенадцать лет папа подарил мне своё старое ружьё 16 калибра, поэтому я увлёкся охотой. С той поры не представляю свою жизнь без охоты и рыбалки, это моё любимое занятие. Я восхищаюсь красотой нашего края, природа основательно потрудилась, чтобы создать это великолепие и незабываемые виды наших мест. Дорогие читатели, я почему-то уверен, что мои рассказы понравятся вам. Кое-кто из вас вспомнит свои молодые годы и на душе станет тепло от этих воспоминаний. А молодым ребятам я пожелаю, как можно чаще бывать на природе и полюбить её, там ты получаешь заряд бодрости и успокоение.
Работа на сенокосе зависела от погоды, поэтому нам приходилось долго жить в лесу. Тогда не было машин, мы добирались до своего участка на мотоцикле с люлькой по очень грязной и заболоченной дороге. Косили и собирали сено вручную и для того, чтобы заготовить корм скоту приходилось работать с раннего утра до позднего вечера. В своих рассказах я вспоминаю это время, прожитое на сенокосе, где начал охотиться и рыбачить на речке. В двенадцать лет папа подарил мне своё старое ружьё 16 калибра, поэтому я увлёкся охотой. С той поры не представляю свою жизнь без охоты и рыбалки, это моё любимое занятие. Я восхищаюсь красотой нашего края, природа основательно потрудилась, чтобы создать это великолепие и незабываемые виды наших мест. Дорогие читатели, я почему-то уверен, что мои рассказы понравятся вам. Кое-кто из вас вспомнит свои молодые годы и на душе станет тепло от этих воспоминаний. А молодым ребятам я пожелаю, как можно чаще бывать на природе и полюбить её, там ты получаешь заряд бодрости и успокоение.
Забавный случай на рыбалке
На дворе стоял холодный январский день и небо было затянуто серыми облаками, которые низко плыли над землёй. Облака полностью закрыли солнце и как бы давили на нас сверху, предвещая плохую погоду. На улице кружила снежная позёмка, наметая большие сугробы возле заборов.
В связи с непогодой настроение было паршивое, я подошёл к окну и долго наблюдал за тем, что происходило на улице. Этот день был мрачным и всё живое как будто попряталось в ожидании тепла, и никого не было видно. Только из труб соседних домов шёл дым, видимо мороз заставил всех пораньше встать и с утра затопить печи. У нас так же горел огонь в печке, которую я затопил рано утром, когда на улице было ещё темно. В прошедшую ночь был сильный мороз, поэтому все окна затянуло снежным узором, хотя под ними стояли радиаторы отопления. Слегка потрескивая, в печи ярко горели дрова и спустя некоторое время в доме стало теплей и уютней.
Задумавшись, я смотрел в окно и на меня нахлынули воспоминания о далёком прошлом. Почему-то вдруг вспомнил одну забавную историю, которая произошла со мной и моими друзьями много лет назад, когда мы ещё учились в школе. Это случилось с нами в конце августа, буквально за несколько дней до начала учебного года. Тогда мы считали себя уже мужиками, ведь перешли в десятый класс. Всего лишь ещё один год и мы выпорхнем из школы, можно сказать, что окунёмся во взрослую самостоятельную жизнь.
Как только мы с папой вернулись с сенокоса, в тот же день вечером я пошёл в клуб на вечерний сеанс. Там встретился со школьными друзьями и гурьбой мы прошли в зал, где заняли свои места. После просмотра кинофильма вышли на улицу и уединившись от толпы стали делиться впечатлениями о летних каникулах. За прошедшее лето мы редко встречались друг с другом, ведь кто-то из ребят был в отъезде, а кто-то находился дома и не появлялся на улице, поэтому сейчас нам было о чём поговорить. Ну, а в августе все парни у кого родители держали скот работали на сенокосе и помогали заготавливать сено.
В тот вечер на улице было тепло и не хотелось возвращаться домой, поэтому мы ещё долго гуляли в центре села. Ведь нам было что вспомнить и обсудить, так как вместе учились с первого класса, и за годы учёбы с каждым из нас происходило много интересного.
Перед тем как разойтись по домам, мы договорились, что завтра отправимся рыбачить на озеро. Немного поспорив о том, что в каком месте будем рыбачить, решили поплыть туда на моторной лодке, которую Рыжий попросит у отца. В то время у них была лодка с мотором и отец разрешал ему брать её, чтобы ездил на рыбалку. Так же мы решили, что не будем брать с собой удочки, а поставим сети, так как в конце лета в них хорошо попадает рыба.
Во время нашего разговора, Сашка почесал затылок и спросил:
– Мужики, кто из вас возьмёт с собой сети, ведь они есть не у всех? Например, у меня отец не рыбачит, поэтому в нашем доме никогда не было сетей. —
– Ладно, я попробую выпросить сети у отца, может он даст мне две или три штуки. – пообещал Рыжий и посмотрев на Папыню, так дразнили мы своего друга, обратился к нему. – Ты попробуй попросить у своего бати и любой ценой выпроси хотя бы две штуки. Ведь я точно знаю, что у вас много сетей и может быть, он выделит тебе несколько штук. —
– Хорошо, я попробую поговорить с ним, может он разрешит взять несколько концов сетей. – ответил тот и тяжело вздохнул.
После этого мы ещё немного поговорили и попрощавшись, разошлись по домам.
В то время сети не продавали в магазине, как сейчас, они были только у тех, кто слыл заядлым рыбаком и сам вязал их длинными, зимними вечерами. Так что не каждый мог разрешить своему сыну взять сети на рыбалку, потому что их могла отобрать рыбоохрана. Поэтому Рыжему и Папыни пришлось долго уговаривать своих родителей, чтобы они дали сети. Ребята пообещали, что будут вести себя осторожно и не попадаться на глаза рыбоохране. В конце концов они едут на рыбалку не в первый раз и знают где ставить сети, чтобы поймать рыбу. Кое-как они всё же выпросили пять концов на двоих, так что нам можно было плыть на рыбалку.
На следующий день вечером Рыжий проплыл на моторке вдоль берега, чтобы собрать нас и отправиться на рыбалку. Каждый из ребят вышел с вещами и продуктами по проулку на берег озера в том месте, где он жил. В эту поездку кроме сетей мы взяли с собой ещё ружья, так как решили поохотиться на уток. Тогда у каждого из нашей компании были свои ружья, у некоторых одностволки 16 калибра, а у меня двустволка. Вот только у Бабича, так мы дразнили друга, не было оружия, потому что его не интересовала охота. В эту поездку он без разрешения на свой страх и риск позаимствовал на прокат ружьё у отца. Тут поневоле возьмёшь, а куда денешься, ведь все ребята будут стрелять уток и ему так же хотелось поохотиться. Хоть тогда нам и нельзя было охотиться, потому что не вышли возрастом, но это не останавливало нас, ведь мы все любили охоту.
Рыжий плыл на казанке вдоль берега и поочерёдно собирал нас. Загрузив свои вещи в лодку, мы плыли дальше за другим другом. В последнюю очередь забрали Бабича, так как он жил на краю села и развернув лодку, поплыли на другой берег озера.
Переплыв на ту сторону нашего озера, а это будет примерно пять километров, мы подплыли к протоке. Она была небольшая и соединяла два озера между собой. Проплыв по ней мы попали на другой водоём, который назывался «Большая Еравна». Это самое большое озеро в нашем районе и до другого берега будет километров десять, а в ширину и того больше. В этом озере водится много разной рыбы, а совсем недавно в него запустили сазана с пелядью, чтобы развести эту породу. Мы уже знали, что пелядь расплодилась хорошо, так как уже многие мужики ловили её сетями. В селе говорили, что она растёт быстро и очень вкусная в солёном виде. Вот бы поймать немного пеляди и попробовать её на вкус мечтали мы, когда отправились на рыбалку.
Когда выплыли из протоки на другое озеро, то резко завернули и поплыли недалеко от берега к тому месту, где собирались поставить сети. Плывя вдоль берега, мы добрались до того места, которое называлось «Камышный». Это был узкий перешеек между озёрами Большая Еравна и Хамисан. Хамисан это название небольшого озера на котором можно было поохотиться на уток. На этом перешейке охотники обычно стреляли уток, которые перелетали с одного озера на другое. Поэтому выбрав удобное место, мы причалили к берегу и выгрузили свои вещи.
Стало темнеть и над нами иногда со свистом пролетали стаи уток, которые направлялись с большого озера на Хамисан. Увидев уток, всем ребятам сразу захотелось охотиться на них и было не до рыбалки. Никто из нас добровольно не соглашался плыть на озеро, чтобы поставить сети на ночь. Между нами разгорелся спор, кому всё же надо было плыть на озеро, так как поджимало время и скоро станет совсем темно. Чтобы никому не было обидно мы решили бросить жребий и выявить того счастливчика, кто будет заниматься этим делом. Поставили такое условие, кто вытянет короткую спичку, тот должен был плыть на лодке и забыть про охоту. Как назло, мне тогда не повезло, я вытянул ту самую злосчастную сломанную спичку. Так что вместо охоты мне придётся торчать на озере и возиться с сетями. Ну, а Рыжему, как хозяину лодки, само собой пришлось плыть, к тому же у него не было ружья, да и охотиться он не любил.
Ребята не стали ждать, когда мы отправимся ставить сети, быстро схватили ружья с патронами и мигом разбежались по берегу, потому что утки начали летать со всех сторон, а несколько стаек просвистело низко над нашими головами.
Тяжело вздохнув, я подошёл к Рыжему и мы вытащили сети из мешков. Затем аккуратно положили их на дно лодки и поплыли вглубь озера. Отплыв метров триста от берега, мы остановились и решили поставить сети в этом месте. Я сидел за вёслами и потихоньку грёб, чтобы Рыжему было удобно ставить их. Опустившись коленями на скамейку, он начал осторожно вымётывать сети за борт и всё время просил меня, чтобы не торопился я.
– Ты не докапывайся до меня, я и так почти не гребу, и вообще весь на нервах из- за этой рыбалки. – огрызнулся я и тяжело вздохнул.
Щербаков Ф. Рассказ алтайского охотника
Произведения об Алтае- Информация о материале
Старая курла
(Рассказ)
Костер пылал, разбрасывая искры. Вода в котелке заходила кругами, увлекая движением случайно залетевший уголек.
Сакыл, не вставая с колен, вынул из торбочки небольшой, стянутый шнурком мешочек, достал из него щепотку кирпичного чаю и бросил в котелок. Все это он проделал неторопливо, размеренными, привычными движениями. Не спеша опустился на потник, подвернув под себя ноги, и, посасывал трубку, опять устремил неподвижный взгляд на огонь.
Он был охотником с двенадцати лет. Родители ему и имя дали охотничье — Сакыл (белка). Длинными вечерами в разговорах у костра (а по-русски Сакыл говорил довольно хорошо) я постепенно узнавал своего друга. В нем чувствовался бывалый человек, исходивший алтайскую тайгу вдоль и поперек и немало повидавший на своем веку. Как-то я спросил Сакыла о его возрасте.
— Не знаю, сколько годов, не помню, — попробовал отшутиться он.
Но я повторил вопрос.
— Вот, посмотри бумажки, там есть все. Зовут как, отца как звали, родился где — все. Ты грамотный, разберешь.
Сакыл ко всем документам относился с каким-то особым уважением. Он бережно достал из грудного кармана гимнастерки пакет, завязанный в носовой платок, и подал мне.
Я с интересом стал перебирать аккуратно сложенные бумажки. Были тут удостоверение колхоза, «выданное бригадиру охотников», удостоверение сельсовета, квитанции пункта «Заготживсырье» на пушнину, вырезка из газеты «Красная Ойротия» за 1948 год. Около большой статьи «Знатный медвежатник области» был фотоснимок. На меня смотрело знакомое лицо с неизменной трубкой в зубах. «Сто девять медведей на счету Сакыла», «двадцать две рыси, четыре росомахи н множество других хищников уничтожил алтайский следопыт» — такими выражениями пестрила статья.
Я взглянул на своего товарища, он смущенно ковырял длинной палочкой в костре, держа в другой руке дымившую трубку.
— Так ты, оказывается, знатный человек, Сакыл? — сказал я, возвращал ему бумаги. — Наверное, и премии не раз получал?
— Маленько получал.
Очнувшись от раздумья. Сакыл поднял голову и, медленно поглядев вверх и по сторонам, сказал:
— Однако, дровишек мало мы с тобой припасли, утром мороз будет.
— Насчет дров не беспокойся, Сакыл, я еще принесу. А вот ты мне лучше скажи, почему твоя старая берданка бьет лучше моего нового ружья?
Уловка удалась. Старик долго выколачивал о конец головни трубку, потом достал из кожаного кисета листовой табак, тщательно растер его в ладони. Прикурив от уголька, ответил:
— Хорошее ружье редко попадает, купить трудно. Было когда-то у меня доброе ружье — да люди извели в старое еще время, молодой когда был. Долго рассказывать, да уж начал, так расскажу.
И поведал мне Сакыл эту историю.
* * *
Лет шестьдесят тому назад Сакыл с отцом и матерью жил в Семинской долине. Отец его. Сарас, был хорошим охотником. Рослый, плечистый, он не раз один на медведя с ножом хаживал. Но вот, когда Сакылу исполнилось восемь лет, случилось с отцом несчастье: на одной неудачной охоте сильно помял его медведь, еле-еле Сарас домой помирать дотащился.
Перед смертью сказал жене:
— Трудно вам будет жить одним, но продавай, что хочешь, а курлу на шевели. Подрастет Сакыл — кормить семью будет.
А надо сказать, о ружье Сараса шла, добра молва по всей округе: от пули этой курлы еще ни один зверь не уходил.
— Ружье это не простое, — продолжал Сарас,— Кто и где его изготовил, не знаю, а только нет ему цены за меткий бой. Друг мне его на память оставил, беречь наказывал…
После смерти хозяина висело ружье в аиле шесть лет. Много охотников приценивалось к нему, хорошую цену давало, да никак не соглашалась вдова, твердо соблюдала завещание мужа.
Винтовка висела, а Сакыл рос. И вот исполнилось ему четырнадцать лет. Уже второй год он постреливал дичь из дедова старого дробовика, а на курлу только поглядывал — не давала ему мать в руки ружьё ни под каким видом. Но когда сын раздался в груди и ростом перегнал мать, а в хозяйстве не осталось скотины, и нужда наступила на горло, не могла она больше противиться, позволила сыну сходить с курлой на охоту за кураном — самцом косули. Чуть не каждый вечер трубил тот на ближних горах, беспокоя собак, зажигая сердце молодого охотника.
Быстро собрал Сакыл припасы, и едва дождавшись утра, отправился в горы. Нелегкой была охота. Долго пришлось ему лежать в засаде у тропы, долго не шел зверь. Но терпенья у парня хватило бы на целую неделю, только не вернуться бы с пустыми руками.
И вот зашелестела высокая трава, хрустнул сучок, из-за кедров показались ветвистые рога, и куран, с гордой осанкой, вышел на опушку. Забыв про все на свете, не дыша, не сводя глаз с таежного красавца, Сакыл медленно навел ствол ружья и спустил курок. Когда дым разошелся, у него от радости захватило дух: куран лежал, зарывшись головой в куст маральника.
…В тот вечер Сакыл важно восседал на мужской половине аила и не спеша принимал из рук матери куски жирного мяса.
Постепенно, незаметно для самого себя, Сакыл превращался во взрослого охотника. Ни одного почти дня не пропуская, бродил он с ружьем по горам, всё дальше и дальше уходя от стойбища. Уже были встречи и с медведем к с маралом — верная курла не изменила ни разу. Уже мать за добычу купила хорошего коня, и теперь Сакыл, как заправский охотник, гарцевал мимо юрт с прославленным ружьем за плечами. Всё шире расходилась слава о старой курле.
Как-то раз заехал к ним приказчик самого Воротникова, шебалинского купца-богача. Целый вечер уговаривал он Сакыла и мать уступить винтовку купцу за большие деньги, но те не хотели и слушать. Под конец Степанов, так звали приказчика, даже грозить стал расправой всемогущего купца, если будут упрямствовать, но все было напрасно, и он уехал ни с чем.
Тревожно стало на душе у бедняков. Мать охала и вздыхала весь вечер. Посуровел Сакыл с того дня, стал избегать людей, почти все время старался проводить на охоте.
* * *
Людно в Шебалино. Праздник зимнего Николы. Народ под хмельком, обнявшись подвое, по трое, а то и целыми ватагами, гулял, переходя с песнями из избы в избу; рекой лилась русская водка и алтайская арачка.
Особенно шумно было у Воротникова. Сегодня у него в гостях сам исправник из Бийска, какой-то чиновник из Улалы, купцы из Алтайского, Черги и Онгудая. В просторных горницах толпятся приказчики с женами, местные мужики-богатеи.
Бородатый хозяин, плотный и высокий, с медно-красным, блестящим от пота лицом, в чесучевой рубашке с расстегнутым воротом, охрипшим голосом приглашает и потчует всех. Жена и дочь сбились с ног, разнося дымящиеся блюда среди жующих, поющих и кричащих гостей.
Тучный исправник, заядлый охотник, еще при входе заметил на стене централку Зауэра и после угощения попросил хозяина показать ее.
Купец с готовностью повел гостя в переднюю комнату и снял ружье с гвоздя.
— Из Бельгии, ваше благородие, выписал, триста целковых, как одну копеечку, отдал! — хвастливо сообщил он исправнику, подавая централку.
Тот, повертев ее в руках, сказал:
— Ружьишко, видать, ничего. А как бой? Не испробуем?
— Что за разговор, конечно, можно испробовать, — ответил Воротников и громко объявил гостям о состязании.
Желающих поглазеть оказалось немало. Шумно вышли во двор. На заборе прибили бумажку с нарисованными углем кругами и начали стрельбу. Победил исправник. Хоть и купец был не из последних стрелков, а все же проиграл: или хмель мешал целиться, или нарочно мазал в угоду почетному гостю.
Долго хвалил исправник хозяйский «зауэр». Польщенный купец самодовольно перебирал пальцами бороду. И тут не выдержал Степанов:
— Централка, конечно, стоящая, а вот я знаю ружье так ружье, не этому чета!
— А ну, скажи, где такое? — нетерпеливо спросил задетый Воротников.
— У одного парня-алтайца, вниз по Семе, сирота, с матерью живет.
— Быть того не может! Откуда у алтайца хорошее ружье? Централка? Винтовка? — допытывался купец.
— Старая алтайская винтовка, курла кузнечной работы. Еще ни одного промаха, говорят алтайцы, не сделала. Давно уж я слышал про нее, хотел для вас, Илья Карлович, купить, целый вечер уговаривал парня и мать — ни в какую не соглашаются! Заветная она у них, говорят.
Тут словно сдурел купец.
— Чтоб у какого-то алтаишки да ружье было лучше моего? В жизнь не поверю! Запрягай, Степанов, сейчас же Воронка с Галкой и духом привези мне этого парня вместе с его курлой. Пряников возьми, платок ситцевый — подарок матери. Проси, чтоб отпустила. Скажи: пусть только приедет ее парень в цель пострелять, меткость свою показать, гостей моих потешить, Скажи: если хорошо будет стрелять — награжу, как надо!
Подвыпивший приказчик мигом заложил пару вороных в легкую кошевку и погнал крупной рысью по накатанной зимней дороге.
Раскормленные, застоявшиеся кони шутя несли легкие санки. Молчаливые лиственницы, одиноко стоявшие по обеим сторонам дороги, неторопливо проплывали назад. Слева тянулся тальник, меж его кустов изредка показывалась неширокая белая полоса замерзшей Семы. Но капризная река не везде поддавалась морозу: в местах, где подступившие с востока и запада горы слишком сжимали русло. Сема билась зверем, перекатывая пудовые камни, пока с шумом не прорывалась в долину. В узких местах мороз был не в силах бороться с рекой, и она, свободная, сверкала хрустальной водой, пенилась над камнями белыми барашками. Дорога все время шла под гору, вдоль реки, и не пролетело и часу, как Степанов подъезжал к юрте Сакыла.
Как ни отказывался тот от поездки, как ни противилась мать, а все же подействовали подарки купца и уговоры расторопного приказчика.
* * *
Часа два или больше купец и исправник сидели отдельно от гостей, рассказывая по очереди всевозможные охотничьи истории.
Наконец, послышался долгожданный звон колокольцев.
— Вот, привез удалого охотника вместе с его ружьем. — улыбаясь, доложил приказчик хозяину и, обернувшись к Сакылу, сказал: — Покажи-ка курлу Илье Карповичу!
Воротников уже подходил с протянутой рукой. Сакыл боязливо подал винтовку. Тяжелое ружье непривычно оттянуло руку; купец долго его вертел во все стороны.
— Ну, давайте пробовать…— сказал
Воротников, передавая ружьё исправнику. — Как тебя звать-то? — обратился он к Сакылу на его родном языке.
Парень назвал себя, свою мать и урочище, где стоял их аил.
— Если твое ружье бьет метче моей централки — на рубаху сатину тебе подарю и весь сегодняшний праздник гулять у меня будешь!
Сакыл промолчал.
Живо соорудили две цели: для курлы на сто сажен и для централки — на двадцать пять. Приз взяла курла. Три пули подряд всадил в вершковый кружок Сакыл, а у купца из трех выстрелов только два оказались удачными.
Сколько ни просил купец и исправник, не дал им парень стрелять из своего ружья.
— Мне отец наказывал никому не давать стрелять из курлы, а то она попадать в зверя не стянет, — упрямо повторял он.
Обескураженные хозяин и гость, надувшись, оставили его в покое. Однако слово свое купец сдержал: велел сейчас же отмерять Сакылу четыре аршина на рубаху и угощать его как гостя до вечера.
Но Сакыл, как только хозяин и гости ушли в комнаты, незаметно выбрался из воротниковского двора и отправился к знакомому плотнику Захару, у которого решил переночевать.
Захар раньше тоже охотничал и не раз ходил вместе с Сарасом на марала и медведя. Сакыла он встретил приветливо. Расспросил о житье-бытье, поздравил с победой у Воротникова и, между прочим, заметил:
— Ты подальше держись от богатеев, Сакыл. Обидят они тебя. Нас, русских переселенцев, вовсю прижимают, а вас, алтайцев, они и за людей не желают считать. Знаю я Воротникова, ох, как знаю. Выпил он моей крови немало, пока я у него в работниках жил.
Переночевал Сакыл и ушел домой утром.
* * *
Запала Воротникову мысль в голову — любым путем добыть у алтайца курлу. Он перебирал в уме всякие способы, пока, наконец, не придумал,
— Слушай. Степанов, — сказал он как-то приказчику, — найди-ка ты какого-нибудь охотника из тех, что «не любят выпить», и подговори сходить с этим Сакылом на медведя. Пусть сумеет во время охоты утащить курлу, да так, чтоб никто не подкопался. Ты потом винтовку у него купишь, и дело с концом! Сумеешь? Действуй!
На злое дело мастера не требуется. Подослал Степанов к Сакылу одного горе-охотника, готового за рюмку водки на все, и сманил тот парня в компанию на медведя. Вскорости это было, той же зимой. Зверь давно уже залег. Нашли жилую берлогу, коней отвели подальше и привязали под елью, где было много сухой травы, не засыпанной снегом.
— Иди, Сакыл, подразни зверя валежиной, а как заворочается — беги ко мне и вместе стрелять будем.
Парень отдал ружье товарищу, выворотил сухую елку и привился поднимать медведя. Как только стал тот выходить из берлоги, Сакыл бросил валежину к скорее к ружью. Смотрит: товарищ его бежит прочь и курлу в руках держит, а берданку оставил. Оторопел на минуту Сакыл, но зверь уже шел на него. Схватил парень берданку, дернул затвор — не поддается: «Заржавел затвор», — мелькнуло в мозгу. Бросил он ружье и бежать. Да ведь по снегу пешему от медведя далеко не уйти — пришлось карабкаться на первую ель.
Зверь был крупный, за человеком на дерево не полез, потоптался немного внизу, рявкнул для острастки и вразвалку пошел в тайгу.
…Поздно вернулся Сакыл в свою юрту и без добычи и без ружья. Всю ночь он глаз не закрыл, ворочался, матери спать не давал — спрашивал, скоро ли утро. А чуть светлеть стало — оседлал коня и, не поевши, отправился к товарищу. Застал его на постели.
— Заболел, брат, испугался зверя вчера, — торопясь, оправдывался тот, не глядя в глаза, — и курлу твою бросил, шибко тяжелая, боялся, до коня не успею добечь. Со страху-то я перепутал, заместо берданки курлу твою схватил… Как теперь, брат, искать будем— не знаю. Сам-то я не могу, как есть больной… Ты посиди, хозяйка сейчас придет, поесть чего-нибудь даст тебе с дороги…
Расспросил хорошенько Сакыл, где тот бросил курлу, и поехал на поиски. Весь день топтал сугробы в тайге вдоль следов своего вероломного товарища, но, не найдя ничего, опять вернулся и нему. На этот раз того дома не оказалось, только жена по хозяйству управлялась. Стал осторожно ее расспрашивать Сакыл про мужа, но та сразу же разразилась бранью:
— Вот иди, полюбуйся на своего дружка — пьянешенек лежит в грязи у кабака. Как вернулся с охоты, так и загулял. Ружье-то, которое у тебя на берданку выменял, он Воротникову продал.
Сакыл молча вышел, все ему стало теперь понятно. Сел он на коня и тихо поехал домой.
* * *
— Так я расстался с курлой. Доброе было ружье, и сейчас еще жалко, — закончил Сакыл свой рассказ.
— А купец долго охотился с этим ружьем? — спросил я.
— Сказывали люди, ни одного зверя не убил Воротников из курлы. Стал он стрелять в глухаря или еще в кого, и разорвало у него ствол. Грязь, видать, в ствол набилась.
Годов двенадцать еще пожил купец. А когда убегали богатеи вместе с белыми на Алтай, догнала его партизанская пуля. Я тогда тоже маленько партизанил. Нельзя без этого. Когда весь народ встал и добывать хорошую жизнь пошел, — как дома сидеть будешь? Больше года по тайге с отрядом ходил. Не одну засаду нам белые ставили, да я тайгу маленько знаю, всегда людей на место выводил. Жизнь-то теперешнюю нам кто дал? Этими вот руками ее делали. Приезжай в наш колхоз, посмотри, как я живу: аила нету, все. В избе живу — колхоз делал. Председатель говорит: «Отдыхай, Сакыл, долго жил, много работал, полезай теперь на печку».
Сакыл раскурил погасшую было трубку и добавил:
— Старик пускай лезет на печку, а Сакыл еще молодой. Сакыл, как снег падает, на медведя сходит, шибко пакостить зверь начал этот год.
…Чай давно был готов, котелок наполовину выкипел. Я принялся развязывать рюкзак и доставать продукты. Вокруг стало совершенно темно, только возле огня оставался освещенный круг: свет костра выхватывал из тьмы то ветви кедра, то белый ствол березы, то высокий обомшелый пень.
Было тихо. Высоко-высоко, в голубой синеве, блестели яркие, холодные звезды.
Ф. ЩЕРБАКОВ. (Алтайская правда, 1957 г.)
Переведено в текстовой формат Е. Гавриловым 30 августа 2015 года.
Читать «Таежные рассказы» — Устинович Николай Станиславович — Страница 2
Н. Емельянова
В ТАЙГЕ
В краю далеком
1
Восьмой день Яша Таранов упорно бродил среди густого пихтача. Раскидистые, запорошенные снегом деревья, бесконечные завалы бурелома и тающие в сером небе вершины белых сопок так примелькались, что Яша видел их даже во сне. Стоило лишь смежить веки, как тайга, угрюмая и необъятная, колыхаясь, выплывала из тьмы. Она манила к себе звериными тропами, бесконечной путаницей старых и новых следов.
Следы… Сколько их встречалось Яше чуть не на каждом шагу!
Много, очень много следов видел Яша. Каких только больших и малых зверей не водилось в тайге! Были тут и хищные росомахи, и белоснежные ласки, и проворные колонки, и крылатые летяги. Даже свирепый медведь-шатун проплелся однажды между сопками, направляясь в дикую лесную глухомань.
Не встречалось лишь одного, самого желанного следа, о котором Яша мечтал и днем и ночью: следа соболя. Из-за этого редкого, драгоценного зверька вот уже восьмой день не знал молодой охотник ни отдыха, ни покоя; из-за него он, пересиливая усталость, обшаривал тайгу. И теперь, после безуспешных поисков, Яша все чаще и чаще начинал думать: уж не ошибся ли он тогда, во время охоты на рябчиков, когда случайно наткнулся на свежий, «горяченький» след соболя? Уж не спутал ли он его со следом другого зверька? Ведь все произошло так быстро и неожиданно…
Нынешней осенью Яша Баранов, так же как и в прошлом году, ушел с колхозной бригадой на беличий промысел. Охотники забрались довольно далеко в тайгу, на новые места, где еще летом была построена просторная изба — промысловый стан. Белок тут было много, и колхозники каждый вечер возвращались на стан с богатой добычей.
Однажды бригадир сказал Яше:
— Придется тебе сходить в деревню. Надо отнести в правление десятидневную сводку.
И хотя до деревни было несколько десятков километров, Яша спокойно ответил:
— Ладно.
Утром он поднялся раньше всех, когда было еще совсем темно. Позавтракав, Яша стал собираться в дорогу. Он положил в рюкзак сухари, соль, котелок, спички. Подпоясавшись патронташем, засунул сзади за ремень легкий топорик, вскинул на плечо ружье и, став на лыжи, двинулся в путь.
День занимался ясный, морозный. Солнце еще не взошло, но заря уже охватила восточную половину неба, и тайга сверкала красноватыми блестками, словно кто-то рассыпал вокруг мерцающие искры.
Проторенную охотниками тропу завалило снегом, но Яша хорошо знал дорогу и уверенно шел вперед. Там же, где у него возникало сомнение, он находил на деревьях сделанные еще летом затески и по ним, как по вехам, двигался дальше.
К вечеру Яша взобрался на перевал и тут остановился. Он снял беличью шапку-ушанку и, щурясь от ослепительно яркого снега, осмотрелся вокруг.
У ног его мягкой медвежьей шкурой лежала тайга. Похоже было, что какой-то великан бросил шкуру как попало и она то горбилась складками, то расстилалась ровными, убегающими вдаль полосками. И кругом, насколько хватал глаз, была все тайга и тайга, теряющаяся у горизонта в бело-синей дымке пространства.
Вдали от перевала белело большое поле. Это была «гарь» — след давнишнего лесного пожара. На гари находилась колхозная пасека, и там круглый год жил старый пчеловод Лукич. У него Яша и решил переночевать.
Пригладив ладонью заиндевелые волосы и надев шапку, Яша, усиленно тормозя палкой, скатился в падь[1]. Тут, в густом ельнике, почти из-под самых лыж с шумом взлетела стайка рябчиков, уже расположившихся было в снежных ямках на ночлег.
«Вот и мясо к ужину», — подумал Яша и, спокойно прицелясь с колена, выстрелил. Птица мягко плюхнулась в сугроб, а с елки посыпалась снежная пыль.
Рябчики перелетели дальше. Яша стал их преследовать: Обойдя островок густого подлеска, он заметил впереди, среди веток, хохлатого самца. Рябчик беспокойно топтался на суку, вытягивая короткую шейку. Это было верным признаком того, что птица вот-вот улетит. Яша стал поднимать ружье.
И в тот момент, когда ложе дробовика коснулось плеча, охотник вдруг увидел перед собой свежий след соболя. Это было так неожиданно, что мальчик не сразу поверил своему охотничьему счастью.
В местах, где теперь находился Яша, соболя почти не встречалось. Многолетнее упорное истребление этого драгоценного зверька привело чуть ли не к полному его уничтожению. Уцелел он лишь в самых глухих, труднодоступных уголках тайги. Но и там теперь охота на него была запрещена.
Впрочем, лучшие охотники из колхоза каждую осень уходили соболевать. Только соболя они не били, а ловили. И всякий раз, когда промысловики возвращались из тайги с железными клетками, в которых тревожно метались проворные зверьки, председатель колхоза Андрей Кузьмич посылал в город телеграмму-молнию. На другой день возле деревни опускался серебристый самолет. Он забирал клетки с соболями и улетал в далекий звероводческий совхоз. Там зверьков выпускали в большие металлические клетки — вольеры, и соболи жили и размножались, как на воле.
Соболеводство приносило очень большой доход, и делом этим занимались многие государственные организации и колхозы. А после Великой Отечественной войны, когда Советская страна стала строить свое хозяйство по новому пятилетнему плану, во многих местах начали открываться питомники и фермы. Спрос на живых зверьков непрерывно возрастал. Поэтому число охотников, занятых ловлей соболей, все увеличивалось.
Отец Яши был когда-то лучшим соболятником в колхозе. Но мальчика охотники с собой не брали, потому что он был еще мал и к тому же учился в школе.
— Тоже промысловик! — усмехался, бывало, отец в ответ на просьбы Яши. — Двенадцати лет не стукнуло… Годика три придется потерпеть. Сейчас у тебя есть поважнее дело: учиться.
И Яша терпеливо ждал, когда после окончания школы его возьмут в тайгу как полноправного члена звена соболятников.
Но дождаться этого дня ему так и не пришлось. Отец ушел на войну против немецких фашистов и погиб, защищая родную землю. Яша, оставшийся в семье «старшим мужчиной», должен был думать о постоянной, верной промысловой добыче. Такую добычу давала только охота на белку. За ней не нужно было забираться в глухую тайгу и затрачивать много времени на поиски. Охотиться на белку Яша умел с десяти лет, и теперь он почти не отставал от других промысловиков.
Яша жил без отца уже три года. И каждую осень он с завистью глядел вслед уходящим в тайгу соболятникам. Они были такими уважаемыми в колхозе людьми! Ведь не было еще случая, чтобы старые охотники пришли из тайги с пустыми руками. А он… Сможет ли он поймать хоть одного зверька? Чего доброго, можно так осрамиться, что стыдно будет и в деревню вернуться…
Но теперь, когда выпал такой удобный случай, Яша не мог его упустить. Этого соболя он должен выследить и поймать! Обмет[2] у него есть — хороший отцовский обмет. Дело только за разрешением: лишь бы отпустил его Андрей Кузьмич дней на десять из бригады…
Яша с волнением наклонился над снегом, легонько ткнул пальцем в след. Пухлый, еще не затвердевший снег легко раздался в стороны: это говорило о том, что соболь прошел здесь не больше часа назад.
Повернув лыжи к пасеке, охотник быстро заскользил под уклон. Почти рядом опять взлетели рябчики, но Яша не обратил на них внимания. Теперь ему было не до рябчиков.
2
И вот кончался восьмой день безуспешных поисков. Солнце, склонясь к горизонту, скрылось за вершинами деревьев. На мглистом небе обозначился бледный, будто припудренный инеем, кружок луны. С севера потянул обжигающий тридцатиградусным морозом ветер.
Рассказ про охоту, описаны быт охотников и пришествия на охоте
Посвящается моему другу – Бикмуллину Анвяру Хамзиновичу
Знаменитый исследователь Саян Григорий Анисимович Федосеев говорил, что в тайге выживает тот, кто сможет устроить для себя сносное житье-бытье. Что занес к биваку, в чем пришел – с тем и будешь жить и охотиться… На своих двоих много продуктов не занесешь и, если планируешь пробыть в лесу несколько дней, надо уметь пополнять запасы.
В нашей компании готовке пищи уделяется должное внимание. По началу мы готовили пищу на костре. Но заметили неудобство такой готовки. Стали приспосабливать разного рода баки и ведра без дна, что-то вроде мангалов. Сбоку прорубали окна-поддувала, внутри разводили мини костерки, а сверху подвешивали или ставили на решетке котелок или чайник. Дело улучшилось. Дров стало уходить меньше. Не надо было теперь загораживаться от ветра, но от дождя это не спасало. Стали использовать бензиновые «шмели». Потом приобрели и миниатюрные газовые плитки. С ними, конечно, очень удобно, но на 18–20 дней потребуется много баллончиков. Но все-же лучше всего нам понравилось коротать свое житье-бытье в болоте, готовить пищу и сушиться у обычной железной печурки с трубой.
У нас с годами выработался свой рациональный перечень продуктов, которые мы заносим с собой в болото. Расчет при его составлении обязательно учитывает, на сколько дней нашей группе их должно хватить. К примеру, на троих на 25 дней. Это 75 приемов пищи, выражаясь по-военному. Первое – это конечно крупы. Все оставшиеся после сезона крупы мы храним в болоте круглый год в пластиковых бутылках. Пробки у них герметичные, влага не попадает, крупы не плесневеют, зверь пока ни разу их не прогрызал… Какие же крупы берем? Прежде всего – пшено. Греча всегда присутствует в нашем рационе.
Ею хорошо наедаешься, долго сыт. Рис тоже, хотя он тяжеловат при переноске и требует большего времени для разваривания. Перловка пригодится для охотничьего шулюма из дичи. В него идут желудки и сердца гусей, мелко порубленные тушки уток и куличков. Особенно ароматен шулюм на свежем гусином жиру. Для каш берем овсянку-геркулес и пшеничку. Заправляем сливочным маслом. Масло храним во мху в подсоленной воде. Даже после 25 дней не замечали, чтобы оно становилось прогорклым. Ведь мох – лучший антисептик. Для супов берем и вермишель.
На каждого по 5–6 банок говяжьих консервов, пакетики супа, бульонные кубики, несколько луковиц, чеснок. На первое время несколько буханок хлеба, сыр, сало, масло, колбаска, рыба копченая. Сухари сушим заранее. Лично я люблю в долгом ожидании налета гусей погрызть ржаной сухарик. Для меня это приятнее любой конфетки или глазированного сырка. Сразу вспоминаю своего любимого героя-исследователя Саян – Григория Анисимовича Федосеева, когда он, оставшись без продуктов в тайге, делился последним сухариком со своей надежной лайкой… Сахар, соль, заварку чая, как и крупы, храним в бутылках у бунгало круглогодично, пополняя ежегодно. Пищу готовит тот, кто оказался в подходящий момент у бивака.
Режим питания получается такой: в обед – горячая пища: суп или каша. Вечером чаепитие, как правило, из термоса. Утром – опять термос. Бывает и по-другому. Если гусей нет, второй завтрак или ужин подогреваем на железной печке или на газу. Чай всегда с клюквой – витамин С от простуды. Особенно приятен такой чаек вечером, без спешки, когда мышцы «отходят» от дневной нагрузки. С собой берем «подбодрин», по Бикмуллински – конфеты «Му-му» или «Рачок». Так уж сложилось в течение многих лет. Берем только такие. Замечал лично, устав тащиться по болоту в течении нескольких часов и пососав конфетку, второе дыхание приходит быстрее.Всегда в запасе с собой и рацион знаменитого охотоведа Капланова: пакетики с какао, сливочное масло, сахарный песок. С ним можно даже при отсуствии продуктов продержаться еще несколько дней. Все содержимое размешивается в кружке и заливается кипятком. Бульонные кубики – это для нас уже настоящий НЗ. Если даже кончатся все продукты, то какую-никакую кашу можно сварить и на бульонном кубике. По крайней мере несколько дней можно протянуть, хоть и не очень вкусно… Рыбные консервы, как правило, не берем. Боимся употреблять их после 2–3 годичного лежания во мху. В 2004 году уже пробовали печь лепешки из пшеничной муки. Лично мне понравилось. Это неплохой выход, когда нету пополнения хлеба. Только надо будет запастись чугунной сковородкой. На алюминиевой все же пригорает…
Убежище
Лучше всего останавливаться в деревянном собственном доме. Но не у всех имеется такая возможность. Да и здесь не все так просто. Поэтому нам приходиться чаще строить свое жилье. В Западной Сибири у нас с племянником построено несколько избушек. От избушки до избушки – день ходу. Постороних там нет. Глухомань. Но в европейской части избушку долго не сохранишь. Приходится строить что нибудь попроще. Делаем каркас из жердей наподобие парника для огурцов. На крыше жердочки настилаем почаще. Крышу желательно укрыть рубероидом. Тогда она не прорвется и от снега. Крыша и стены из брезента или ткани, которыми обтягивают автомобильные фуры. Такое жилье будет надежным и долговечным. Если такого материала нет, приходится обтягивать каркас пленкой, как теплицу. Плохо, что после зимы пленка ломается и приходит в негодность. На следующий сезон надо завозить новую.
Надежно бунгало, укрытое искусственным войлоком и обтянутое пленкой. Внутри такого жилья ставим железные печки. Трубы у них двухколенные. В разделку из железного листа трубу выводим в боковую стенку. В одном укромном местечке есть у нас и свой чум. Он тоже обтянут брезентом. Вверху отверствие для дыма. Огонь разводим внутри прямо на земле. Сбоку лежанки. Можно конечно коротать ночи и в палатке. Их теперь большое разнообразие. У нас имеется импортная, купольная 3-х местная (с расчетом на двоих) с тентом и тамбуром. Важно, чтобы в ней было не тесно, чтобы она не промокала, чтобы было где разместить вещи. Хорошие палатки дороговаты, их надо стеречь, а после охоты уносить домой. Это нам не нравится, и мы делаем, как правило, стационарные бунгало-шалаши. В болоте очень важно соорудить надежные лежанки. Нижние жерди должны быть достаточно толстыми, чтобы не прогибаться и не оседать в трясине.
Приходилось, конечно, ночевать и под навесами и под открытым небом. Трудноваты такие ночевки. Прокрутишься всю ночь. Да и рано или поздно заработаешь хронические простудные болезни. Что касается устройства нодьи, то это делается не так часто. Может, только для экзотики. Ну что тут сделаешь! Попала нодья в охотничью литературу и кочует из века в век. Мы ни в Сибири, ни здесь под Питером нодьи не сооружаем. Зачем такая трата времени? Нет ничего проще сибирского таежного костра. На бревно, лежащее на земле, положить концами 2–3 бревна. А вторые концы этих бревен разводятся, чтобы огонь их не лизал… Под утро возможно придется пододвинуть подгоревшие бревна вперед и снова улечься досыпать на лежак под навес… Чтобы костер тлел подольше, можно сверху навалить еще несколько бревен.
Дорогу осилит идущий
Труден путь в болоте: топи, мох, лишайники, грязи. Конечно, болото болоту рознь. Нам приходится охотиться в отдаленном труднопроходимом болоте. Без компаса даже в знакомое болото заходить нельзя. Дело было много лет назад. Однажды при утреннем заходе у товарища не оказалось компаса. Заходили мы с разных направлений и должны были встретиться в определенном месте. Туман стоял как молоко. Солнце подчеркивало его белизну. Придя на место, я стал кричать, вызывая товарища. Ответа нет. Что такое? Ведь он уже должен быть здесь… Подумал и начал выдвигаться ему навстречу. Километра через два услышал чей-то отдаленный крик. Ничего не оставалось, как идти навстречу. И точно, мало того что он не взял компас, так он еще был в коротких резиновых сапогах и, обходя встречающиеся по пути мочажины, сбился с правильного направления. В итоге день для охоты на гусей практически был потерян.
О слеге я говорил уже много раз. Для ходьбы в болоте она наипервейшая вещь. Во-первых для проверки проходимости участка перед собой, во вторых для сохранения равновесия и, главное, для спасения в случае провала в трясину. Это будет последней надеждой… Она должна быть прочной, легкой, длинной. Уж во всяком случае не должна сломаться, если пришлось навалиться на нее всей массой вместе с рюкзаком… То есть это не легонький посох странника… Это прочная сухостоина длинной метра 2,5. Ходоку по болоту не должны быть свойственны поспешность и горячность. Надо всегда притормозить перед очередной трясиной, реально оценить ее опасность и принять взвешенное решение. Риск всегда должен быть минимальным. Лучше потратить лишние 20 минут на обход, чем решить махануть через непроверенную мочажину…
Плата за терпение
Раннее туманное промозглое утро. Проснулся по своему будильничку. Кстати, хорошая вещь. Не надо крутиться всю ночь, боясь проспать утреннний налет. Но уже несколько дней властвует южный циклон, заперший гусей где-то в Карелии. Никаких звуков. Можно спокойно полежать… Как всегда наметил в общих чертах план сегодняшних действий. Работа всегда найдется. Надо наточить ножовку, поправить профили, оборудовать тамбур в кухне. Достал термос, бутерброды. Можно и позавтракать. И вдруг с правой стороны бунгало грубые гортанные крики гуменников, запрашивающие у моих профилей разрешение на присаду. Отбрасываю полог, передергиваю затвор. Но гуси уже над головой. Трижды стреляю с неудобного положения, не вылезши еще из спальника.
Темное небо, и результатов выстрелов не улавливаю, хотя близкого падения не было. Черт побери. Надо было не нежиться, а вовремя, как всегда, вылезти из спальника. Ведь перед этим налетом прошло впустую три дня… Зря расслабился. Делать нечего. Экипируюсь, вылезаю из бунгало. Начинаю обследовать участок возможного падения гусей. Подходит приятель. Ищем, ничего не находим. Скорее всего промахи. Еще бы, что это за стрельба такая – лежа. Но вспоминаю Бикмуллина – денек-то осенний пролетный. Жди охотник, жди. У меня неизменное правило: я всегда верю в удачу. Жалкое зрелище – постоянно ноющий охотник, не верящий в удачу. Большое деморализующее воздействие оказывает его нытье на компанию, особенно, когда все голодные, промокшие и уставшие.
Впрочем, здесь у нас таких нет. Решили до обеда посидеть здесь, а на вечернюю зорьку сместиться ближе к озерам. Почаевничали еще раз вдвоем, затем товарищ ушел к своему бунгало метров за 200. Унылый денек. Четырехчасовое сидение ничего не дало. Вот так. Надо было утром быть более собранным. Однако приятель уже зовет на обед. Не привык я пустым идти к общему обеду. Да что поделаешь. Не мажет только один барон Мюнхгаузен. Только сделал несколько шагов от скрадка, как вблизи опять сильнейший гомон стаи, увидевшей профиля. Прыгаю за скрадок. «Ужо теперь не прозеваю». Налет классический. Строгий клин гуменников. Высота вполне досягаемая, хотя и немалая. Бью первого – падение, второго – промах, третьего – падение. Неплохо для сегодняшнего лентяя. Да и упали почти по направлению хода на обед.
Подбираю гусей, осматриваю на всякий случай местность в бинокль по ходу стайки. Больше ничего нет. Теперь на обед идти значительно веселее! И после 3–4 шагов – опять накрывает очередная стайка гуменников. Теперь приткнулся только за чахленькими сосенками. Гуси лежат рядом. Плохая маскировка… Снова ровный клин над головой. Два выстрела. Один гусь, кувыркаясь, падает вниз почти возле кухни. Больше бить не стал, далековато отдалились… Подхожу к приятелю с тремя только что добытыми гусями. Все произошло неожиданно и скоротечно на глазах у приятеля. Он говорил мне потом, что смотрел на мои действия как на смонтированное видео, не очень веря в происходящее. Но факт подтверждают три гуменника, лежащие у бунгало на мху. Как по поговорке: «Не было ни гроша, да вдруг алтын».
Данные материалы были высланы мною Анвяру в январе бандеролью вместе с некоторыми предметами охотничьей экипировки. Но 10 февраля получил бандероль обратно. 12 февраля узнал, что яркая звезда Анвяра Хамзиновича погасла. Увы, но больше не порадует он нас сообщениями о новых охотах в Колбасном болоте. Хотя уверен, что и Там… он не изменит своей благородной страсти.Российская охотничья газета Анатолий АЗАРОВ, г. Санкт-Петербург
Леонид Чадамба. Сын тайги (Повесть)
Под большим мохнатым кедром уютно укрылся шалаш. Трещит костер. Стремительно улетают в черную высь его искорки-звездочки, освещая стволы дремлющих исполинов. Возле костра хлопочет с богатой добычей дня охотник. Одна искра упала ему на руку. От неожиданности и боли чуть не выронил соболью шкурку в огонь. Заворчал про себя:
— Черт возьми! Чуть было огню не пожертвовал! Однако, надо быть осторожнее, всякое, видишь, бывает…
Охотник отодвинулся немного от костра и стал дальше оснимывать тушки соболей и белок. Это был один из известных звероловов Тоджи Бараан Дажырган. За свою долгую жизнь он до тонкостей освоил нелегкое промысловое дело, неоднократно бывал в Москве как участник ВДНХ. Но в большом городе он чувствовал себя неуютно — ему каждый раз хотелось поскорее вернуться в родную тайгу…
Проверяя качество очередной шкурки, Бараан еще раз встряхнул ее. «Славная»,— удовлетворенно отметил он. Тихо падал снег. Снежинки порхали вокруг маленькими бабочками. Поодаль от костра терпеливо лежал верный друг и бывалый «охотник» Костюк. В ожидании ужина собака внимательно следила за действиями хозяина. Держа шкурку одной рукой за нос, другой — за хвост, Бараан продолжал любоваться собольим мехом. Он то и дело встряхивал шкурку, дул в темный ворс, опять встряхивал, всматривался. «Хорош!» — окончательно решил он. Ему казалось, что по блеску шкурка не уступает пламени костра, так же горит, переливается, искрами вспыхивает то тут, то там.
— Ну и шкурка, ну и красота! — радовался бывалый охотник. — Спасибо тебе, родная тайга!
Но его слушатели — древние могучие кедры — оставались молчаливыми и безучастными, погруженными в сон и снег.
Неожиданно хрустнуло. Не выпуская из рук соболя, Бараан стал вглядываться в ту сторону, откуда послышался звук. Темнота была черной, непроглядной, только валил хлопьями снег. Наконец обозначился силуэт человека, с ног до головы облепленного снегом. «Будто в муке обваляли», — подумал Бараан. Следом выскочила собака и, радостно виляя хвостом, устремилась к костру.
Бараан через костер крикнул:
— Ну, как, Вик, почему так долго?
Тот, кому был задан вопрос, на ходу стряхивая снег с шапки, ватника, бойко ответил:
— Заблудился немного. Ушел дальше, а они, оказывается, под носом паслись. Ух, какой богатый снег валит!
Парень подошел к костру, на его лице радостно блестели мальчишеские глаза. И хотя ему едва исполнилось шестнадцать лет, но по сноровке в таежном промысле он мало кому уступал. Виктор Байыр-оол (так звали парня) ходил за оленями, на которых они передвигались по тайге. На ночь их отпускали на отдых.
— Когда же мне посчастливится поймать такого? — с восхищением произнес Виктор, оценив шкурку в руках старшего товарища.
— Придет время, и тебе такой попадется. Непременно. Ты мне лучше скажи, что дальше делать будем? Тебе до плана двух шкурок не хватает, мне — одной. А тут еще снег мешает, продукты кончаются.
Виктор налил чаю в самодельную чашку из корня березы, сделал несколько шумных глотков и решительно сказал:
— План надо выполнить во что бы то ни стало! Может, переберемся в другое место?
— Правильно рассуждаешь, парень. План — закон. Мы его не выполним, другой кто-нибудь не выполнит — вот тебе и весь наш совхоз, а значит, и район, дальше — республика отстала!
— Ну, нет… Уж я-то выполню, честное слово! Клянусь тайгой!
— Да. Но продукты, говорю, кончаются. И у нас, и вот у наших друзей, — Бараан кивнул на собак.
Виктор продолжал с шумом прихлебывать горячий чай.
— Собак можно поддержать дичью, — предложил он, подумав.
— И то верно. Завтра и пойдем за ней. Может, удастся сохатого подвалить.
— Тогда бы мы продержались! А возвращаться без плана — позор! Как людям в глаза смотреть?
— Тебе особенно неловко, девчата в поселке засмеют: кому, мол, такой жених нужен — горе-охотник!
Парень только молча погладил шкурку соболя.
— Давай-ка теперь поговорим серьезно, — продолжил старший. — Вот почему мы с тобой сейчас здесь находимся, в глухой тайге, вдали от людей, на морозе, отказываем себе в отдыхе, еде? Чтобы добыть больше соболя, белок. Пушнину недаром называют мягким золотом Чем больше мы ее заготовим, тем богаче, могучее будет наша страна. Я бывал на Великой выставке в Москве, видел пушнину, привезенную из далекой Якутии, Бурятии, Алтая. И смотрят ее тьма людей, со всех стран мира, и высоко оценивают, наравне с золотом. Хозяева Выставки поясняли гостям, что меха из Тувы — особенно ценные. Вот и ты, Вик, станешь знатным охотником. Конечно, если будешь стараться, повезешь и ты свою пушнину в Москву.
Слова старшего еще больше утвердили Виктора в решении белковать дальше.
— Пока не выполню плана, из тайги-матушки не выйду, — твердо сказал он.
— А как будешь без продовольствия? — опять вернулся к злополучной теме Бараан. Он будто испытывал юного напарника.
— Да вы за меня не беспокойтесь! Ерунда!
— Вовсе не ерунда. Запомни, Витя, охотник должен быть выносливым, сильным, с зоркими глазами, чуткими ушами. А откуда придет сила, если нечем подкрепиться? На голодный желудок никакое дело не спорится, даже ноги не идут. А уж об охотнике и говорить нечего!
— Сегодня надо мной не так высоко самолет пролетел к верховью, — радостно сообщил Виктор.
— О-о, так он, возможно, привез продовольствие и снаряжение.
— Тогда я схожу на базу. Привезу свежие газеты, письма, — глаза Виктора стали большими, с пиалу.
«База отсюда порядком, туда-сюда — четверо суток уйдет, не меньше. Разве можно спокойно отправить одного парня по тайге?» — чуть не вслух размышлял Бараан.
— Вот что сделаем, — сказал он, наконец. — Снег будет идти и завтра. Снаряжения нам пока хватит. Я пойду за зверем, а ты сходи туда, где я уже был. Там есть один соболь. Постарайся его добыть.
— Так на базу не идти? — не скрывал досады парень.
— Лучше походить здесь, поблизости, добрать до плана, а потом поскорее домой. По-моему, так будет умнее.
Снег падал все гуще и гуще. Ветви кедров уже почти не задерживали полета снежинок. Собаки Костюк и Хартыга уже дремали, свернувшись калачиками, изредка поднимая головы с настороженными ушами. Они знали, что скоро опять идти на охоту, и потому восстанавливали свои силы.
Проверив еще раз все свое снаряжение — карабин, тозовку, патроны — Бараан с легкой душой стал укладываться на ночлег. Лег спиной к костру. Виктор увлеченно читал сильно потрепанную книжку, вернее, перечитывал ее уже в который раз.
Бараан долго не мог уснуть — мешали все те же думы о продовольствии, перед глазами стояли соболи, которых не хватало.
— Ну-ка, Вик, о чем пишут в книгах?
— Ха-а, в этой книге написано очень интересно, очень…
— Вот и расскажи, что там написано?
— Да, пишут обо всем, только вот не написано, как соболей найти.
— Ладно, а еще о чем? Почитай вслух.
— Я вот читал недавно в газете, один чабан из Дзун-Хемчика от ста овец получил 162 ягненка. Вот здорово, а!
— Да-а. 160 ягнят! А мы? Из-за трех соболей в тайге застряли! Ну, ладно, спать, спать, братишка. Завтра нам надо далеко шагать.
— Три — это ничего… Переживать особо нечего… Вот только снег притормозит нас, — боролся со сном парень.
А снег все шел и шел, падая хлопьями, шипел в костре, как сало. Вскоре сон все-таки сморил охотников.
С рассветом отправились на охоту, чтобы застать зверя во время его завтрака. Снег по-прежнему валил, но уже не такой густой, можно было промышлять. Кобель вел себя как-то странно: был ленив, безучастен, не озирался, как обычно, не искал следов.
— Костюк, почему ты сегодня такой, а? Как мы с таким настроением будем искать добычу? — вполголоса разговаривал охотник со своим другом.
Собака только виляла хвостом, высунув язык.
Они не спеша поднимались вдоль хребта вверх. Было тихо, ничто не нарушало безмолвия: кругом один глубокий снег, укутаны в снежные одеяла деревья, спрятались под большущие белые шапки пни. Разве что взлетит где рябчик или глухарь. Тайга без конца и края, царство кедра. Все это близко и дорого сердцу, знакомо, привычно. Никогда не отпускала тайга охотника с пустыми руками, всегда возвращался он с богатой добычей. Что же нынче-то происходит?..
С такими невеселыми думами Бараан незаметно оказался у знакомого места — Хорумнуг-Озен — курганной ложбины. Звериных следов не было. «Видать, не будет мне удачи», — подумал охотник. С досады слез с оленя, закурил.
Перед ним раскинулась величавая, бесконечная черно-синяя тайга Кара-Суглуг. Казалось, она любезно приглашала охотника: «Иди сюда, перебеги ко мне, не останешься без добычи!».
— Ээ-хай! Костюк, давай-ка лучше перейдем на ту сторону, иначе нам придется здесь туго, — посоветовался хозяин со своей собакой, которая плелась следом. Костюк коротко взлаял в знак согласия и зевнул, дав понять, что пора бы и перекусить чего. В это время на осину прямо перед ними сели рябчики. Бараан тут же выстрелами снял одного, второго, а двух — прямо на лету. Двух он кинул собаке, двух приторочил к седлу. Костюк разом управился с обедом, кинул благодарный взгляд на хозяина.
Перевалило за полдень. Пес, умявший рябчиков прямо с перьями, разбудил аппетит у охотника. Бараан достал из кармана тужурки боорзак — обжаренные в масле кусочки теста, которые брал с собой, вместо сухарей — и стал неторопливо жевать. Олени копытили глубокий снег в поисках ягеля, шумно собирали его толстыми губами.
Бараан все прикидывал, не решаясь окончательно, и в то же время испытывая нетерпение поскорее перебраться в манящую на той стороне горной разложины тайгу. Она была холмистой, сухостойной, а значит, там мог обитать соболь. Вдруг ушки собаки встали торчком, она беспокойно забегала, со свистом втягивая воздух в ноздри, а затем стрелой полетела в темнолесье. Охотник быстро сел на оленя и осторожно поехал следом. Костюк бежал без остановок, пока сухостой не сменился темно-зеленым кедрачом. Тут собака вернулась обратно и снова бросилась вперед. Под кедром был виден след соболя. Спешившись, охотник убедился, что следы были совсем свежими, лишь немного запорошены снегом. Значит, соболь где-то рядом…
Собака пошла дальше. Бараан пустил оленей пастись, опутав им ноги, а сам пошел за Костюком. С нетерпением ожидал, когда собака, обнаружив зверька, зайдется в лае, но та шла молча. Следы стали более отчетливыми, видно было, что соболь убегал, не останавливаясь. Пошла всхолмленная местность.
«Вот беда! Сейчас уйдет, спасаясь, в нору. Лови его потом! — лихорадочно соображал охотник. — Чтобы его догнать, надо чуть ли не бежать».
Конечно, при таком снегопаде зверек вряд ли уйдет, разве что укроется в укромном месте. Бараан поднялся на небольшой взгорок, устало присел на поваленное дерево.
Снег повалил гуще. Высоко в хребтах уныло шумела тайга. Оттуда, сверху, доходили порывы ветра, сбрасывавшего изредка комья снега с веток. Тайга предупреждала: скоро быть пурге. Стало темнеть.
— Вот и Костюк молчит, — отметил вслух охотник.
Вдруг Бараан почувствовал спиной чей-то взгляд. Он вздрогнул и резко повернулся. Первым делом увидел свою собаку, которая беспокойно бросилась к хозяину, лизнула ему руку, кинулась прочь, отрывисто лая, и вообще была в сильном возбуждении.
— Ну, ладно-ладно, понял тебя, дружок! — успокоил собаку хозяин. А про себя подумал: «Неужто сам хозяин тайги?..».
Мысль эта обожгла: что делать? Время позднее, Виктора рядом нет, однако, не оставлять же столько сала. Пока светло, надо выяснить, кто это, и если косолапый, то завтра пожаловать к нему в гости.
— Что, Костюк, пойдем или нет? — спросил, словно искал поддержки у собаки.
Пошли за оленями, которых оставили довольно далеко. От быстрой ходьбы Бараан вспотел, одежда стала тяжелой. Найдя оленей, сел на переднего и поехал за собакой. Вскоре Костюк привел к поваленному дереву, перепрыгнул его туда-сюда и стал со злостью лаять.
Голос собаки встревожил тайгу.
— Ага! Так вот где он прячется! — от радости охотник рассмеялся.
Бараан спрыгнул с седла и стал осматривать дерево: вот тебе на! Не говори гоп, пока не перепрыгнул! Нет его, одни следы. Ай да умный соболь, ай да хитрец! Убежал, пока собака бегала за хозяином.
Охотник опять пошел по следу. Между тем сумерки сгущались. Охотник, наконец, успокоился: один соболь есть, можно не беспокоиться — он от них не уйдет. Надо только заночевать здесь. Постой-ка! А как же Виктор? Ничего, молодой, ловкий, наверняка, подстрелил кой-какую дичь. Не пропадет!
Бараан запалил костер, принялся готовить себе и собаке ужин — шашлыки из рябчиков. Перекусив, стал сушить мокрую одежду.
Ночь прошла благополучно. Утро вновь выдалось пасмурным, валил снег. Самочувствие было неважным, ведь со вчерашнего дня толком не ел, не пил. Но о себе Бараан не беспокоился, знал, что выдержит. Тайга закалила его. И теперь, не обращая внимания на непогоду и легкое недомогание, потихоньку двигался по следам соболя.
Вдруг собака стрелой устремилась вперед и побежала меж кедров, громко лая. Бараан весь подтянулся, поспешил следом и увидел сидящего на дереве глухаря. Что ж, и за это спасибо, родная тайга! Тут же снял глухаря, спроворил костер, поджарил на огне грудину и две ножки, остальное отдал собаке. Немного порадовав пустой желудок, двинулся дальше.
Настроение поднялось, стало легче в пути. Костюк тоже повеселел. Однако следы соболя пропали. Ничего, собака свое дело знает. Вот Костюк взял влево, и через некоторое время оттуда послышался его лай.
Костюк опять бегал возле поваленного дуплистого дерева, караулил один конец дупла. Охотник стал стучать по кедру палкой, иногда шуруя ею изнутри дерева. Пусто. Обошел вокруг — никаких признаков, видимо, опять ушел. Но… собака, она-то ведь не должна обмануться. Посмотрел на часы — девять утра. На душе стало тревожно: Виктор, должно быть, теперь не на шутку обеспокоен.
«А что, не пустить ли в это убежище дыму?» — подумал про себя.
Принес елового хворосту, запалил. Дым, как назло, относило ветром в сторону. Чем же направить его в дупло? Стал смотреть по сторонам: кругом, кроме снега и укрытых им деревьев, ничего не было. Тужуркой! Снял ватник, прикрыл им костер от ветра, дым густо повалил в ствол дерева. Стал с нетерпением ждать главного. Скоро стало подмерзать, а соболь все не выскакивал. «Однако так дальше не пойдет!» — Бараан надел ватник и стал направлять дым с помощью срубленных веток кедра. Через какое-то время вместе с дымом что-то молниеносно выскользнуло из дупла и мелькнуло перед глазами. В тот же миг Костюк прыгнул в сторону от бревна, кинулся дальше.
— Халак, халак! Бедняга соболь! Сколько из-за тебя мучений! — с этими словами охотник побежал за собакой.
Костюк заливался лаем, стоя на задних лапах, прыгал вверх. Бараан заметил на верхушке кедра, у основания одного из его отростков, что-то черное. Хитро спрятался, умница! Охотник вскинул ружье, целясь в голову. Выстрел — и вот уже красавец камнем падает вниз. Костюк бросается к добыче. Бараан поднимает соболя и прячет его за пазуху. Кажется, рукой сняло усталость и голод.
Бараан освободил от пут оленей, сел на одного из них и поехал, весело напевая: «Спасибо тебе, моя Одуген-тайга!..».
Это был его 57 по счету соболь, последний в охотничьем сезоне.
Солнце еще не зашло. Но в тайге, да еще в зимнюю пору, темнеет рано. Снег глубокий, про такой в народе говорят: по самые бедра. Олени осторожно ставят ноги, причем задний безошибочно попадает в следы от переднего, напоминающие дырочки от колышек. Собака бежит по снегу, как спортсмен, легко подпрыгивая.
Серо-бурый олень Бараана шел впереди, умело управляя своими раскидистыми рогами, стараясь не задевать веток деревьев. Кажется, глаза у него на самой макушке. Древние кедры, ели, осины стояли в безмолвии, только вверху чуть слышно гудели от ветра. Изредка целый сугроб падал с дерева.
Костюк искал след. Вот он подпрыгнул вверх и настороженно залаял. Зоркие глаза охотника сразу заметили белку, бегущую по кедру. Приученный олень тут же остановился. Не слезая с седла, стал прицеливаться. Только показалась головка зверька, как раздался выстрел. Падая, белка застряла в ветвях. Пришлось лезть на дерево, доставать.
В это время в стороне послышался радостный лай собаки. То был Хартыга. Сидя на дереве, Бараан видел, как его собака кинулась в заросли и исчезла в них. Затем вдруг испуганно, как показалось охотнику, взвизгнула, вернулась назад. Охотник положил белку за пазуху и слез с кедра. Тут подъехал Виктор.
— Чем порадуешь, Вик?
— Плохо, не везет мне, только семь штук кое-как добыл. Мало там белок.
— Да и мне хвастать нечем — четырнадцать пока…
— Собака залаяла беспокойно, думал — хозяин тайги пожаловал. Напугался малость.
– Здесь он, близко… Костюк никогда не ошибается.
— Темно становится, — сказал Виктор. Он был встревожен, хотелось скорее к спасительному костру.
Бараан Барымаевич, казалось, не замечал испуга парня, напротив, предложил:
— Вот и пожалуем к нему в гости, — и стал торопливо собираться.
— Как?! Вы собираетесь сейчас идти на медведя? — не поверил парень.
— Здесь где-то внизу есть стоянка охотников, сейчас мы спустимся туда, а там поглядим, — уклонился от ответа старший.
Стали спускаться вниз. Прихватывал морозец. Бараан в спешке забыл опустить уши шапки из черной мерлушки, и ушанка закрывала только одно ухо. Даже рукавицы впопыхах не надел. Ехал, подгоняя оленя ногами. У Виктора в душе нарастало недоумение: что заставляет напарника идти на поединок сейчас, на ночь глядя, удастся ли им двоим справиться с косолапым?.. Белковать бы дальше, нет, с медведем хочет встретиться…
Виктор ехал и напряженно осматривался: за каждым деревом чудился медведь. Внизу, где кончается ложбинка, увидели голубой дымок от костра. Он струился вверх по стволам кедров и исчезал в пасмурном небе.
К мохнатому кедру притулилась стоянка охотников — чум из еловой коры. У костра неторопливо двигался человек богатырского телосложения — с широкими плечами, могучей, как сундук, грудью. Он нанизывал на шнурок шкурки белок для сушки. Все тоджинские охотники полтора месяца назад ушли на промысел и ни разу не встречались друг с другой. Только вот сейчас, как было условлено. Встретиться с близкими, знакомыми людьми всегда радостно, а в тайге — втройне! Успеваешь соскучиться по людям. Хозяин стоянки еще издали, едва увидев гостей, широко улыбался. Встретившись, крепко обнялись.
Привязав к молодому дереву оленей, сели к костру.
— Здравствуйте, дарга!
— Здравствуйте, здравствуйте! Ну как, с добычей вас? — с нетерпением спросил богатырь.
— Особо хвастаться нечем. А вы, Бараан Самбуевич? По лицу вижу, вам, как всегда, есть о чем рассказать, — в свою очередь, обратился с вопросом Барымаевич.
— Откровенно говоря, чуть перевалил план. Мои напарники один за другим уехали домой, а я вот надумал еще малость пострелять. Теперь-то уж домой надо, все равно белки мало.
Бараан Самбуевич снял с огня кипящий чайник.
— Ну, мужики, вы с дороги, устали, отведайте хооргала — пригласил к чаю, тем же боорзаком, только назвав его по-здешнему, по-тоджински, угостил.
Дажырган, смачно потягивая чай, начал беседу:
— Что и говорить, спасибо тайге! В этом году много пушнины. Все зависит только от нас самих.
— Верно. В народе говорят: будешь сидеть, останешься без добра. Тайга не скупится. Сколько хожу по Серлиг-Хему, а никогда не был в обиде, всегда возвращался с добычей.
С этими словами Бараан Самбуевич Чигжит, небезызвестный охотник Тоджи, проворно вытащил из кожаного мешка черно-бурого соболя. Заправски взяв одной рукой за нос, другой — за кончик хвоста, встряхнул шкурку: пушистый, мягкий ворс так и заискрился.
— Да-а, хорошая шкурка. У нас тоже есть два таких красавца, но с вашим не сравнить!
— Серьезно? Ну-ка, давайте сравним! — вошел в азарт богатырь, словно вызывал противника померяться силой в борьбе.
— Погодите, дядя! Нам показалось, когда ехали сюда, что рядом медведь. Вы не встречались случайно с ним?
Виктор в разговор не вступал, усердно чаевничал. В горячий чай он положил несколько кусочков боорзака, которые плавали там полешками, и с аппетитом жевал. Щеки его раздувались, как у рыбы.
— Может, след старый? — засомневался Чигжит.
Виктор, услышав, о чем разговор, стал отговаривать товарищей:
— Да ну его! Он уже давным-давно ушел искать свою берлогу, шатается где-нибудь, такая уж его доля…
— Странно, почему он не спит, в самом деле? Кто мог его разбудить? Вроде в этом году было много и ягод, и ореха, — недоумевал Дажырган.
— Может, ваша собака разбудила?
— Нет, наверное, ваши побеспокоили, — ответил Барымаевич.
— Ладно, вы тогда поезжайте сейчас, пока не стемнело, посмотрите следы, а завтра втроем наведаемся в гости, если что, — предложил Чигжит.
— Решено! — обрадовался Дажырган. – Поедем за салом.
— Погоди, любитель сала, не сало — самое ценное у медведя, а желчь, народное лекарство. Но еще рано пировать. Надо еще свалить быка, как говорится. Да и опасен шатун, может напасть, если голодный. Отправляйтесь, пока не поздно, да осторожнее! — поторопил старший по возрасту.
Бараан Барымаевич и Виктор, позвав собак, стали подниматься наверх.
— Дядя! — обратился Виктор к Дажыргану. — Почему не взял с собой карабин?
— Да мешаться только будет. Косолапый сегодня, думаю, не попадется, — самоуверенно ответил тот.
— С ума сошел! Возьми ружье, говорят! — крикнул вдогонку Чигжит.
Пришлось вернуться, взять карабин.
Проехали достаточно. Вот он, тот самый косогор, о котором говорили. Слени привычно идут по снегу, оставляя следы-колышки. Чуткими ноздрями ловят аромат спрятанного под снегом ягеля, дразнят нюх древесные грибы — иногда олени делают скачок в сторону, к ним. Охотники едут не торопясь, отводя руками низко свисающие ветки.
Костюк и Хартыга пока спокойны, бегут себе на длинных поводках за оленями. Охотники объехали косогор, но ничего подозрительного не заметили. Неужели медведь успел так далеко уйти? Берлога его где-то рядом, это точно. До темноты надо непременно найти хотя бы след.
Виктор молча едет за Дажырганом. Страх терзает его, кажется, вот-вот выскочит зверь со страшным ревом. По спине бежит холодок, лицо в огне. Однако парень старается взять себя в руки, успокаивает нервы: «Бояться совершенно нечего. Я еду с бывалым, бесстрашным охотником…».
Косогор кончился, местность стала склоняться книзу. Внизу — чернота дремучего леса. Тут-то вдруг олени и собаки учуяли… Олени стали беспокойно озираться, Костюк — с лаем рваться вниз.
Виктор затаил дыхание, только сердце отчаянно билось в груди. Усилием воли заставил себя успокоиться: «В половодье и теленок пловец». Что ж, пускай выходит, еще посмотрим, кто кого.
— Ну, Виктор, тут он, дедушка, — тихо предупредил Дажырган.
— А почему следов нет?
— Давай-ка пустим собаку, посмотрим, как она себя поведет.
— А если медведь задавит?
— Костюк — не простой орешек. Бывалый охотник.
Бараан отпустил собаку с поводка.
— Иди! Будь осторожна!
Собака пулей бросилась вниз.
— Давай, дядя, отпустим и Хартыга.
— Нельзя пока, а то медведь, если две собаки нападут, убежит.
Через некоторое время послышался тревожный лай.
— Ну вот, нашли, где отдыхает косолапый. Завтра утром можно пожаловать к нему в гости.
Виктор, ходивший поблизости в поисках следов зверя, вдруг испуганно закричал:
— Боже мой! Что это за чудовище? Смотрите, смотрите!
— Что такое?— встревожился Бараан.
На снегу четко выделялись огромные следы — они уходили вниз, разметая снег по сторонам. Казалось, прошел великан в огромной шубе и валенках.
— Да ведь это и есть хозяин тайги — дедушка!
Вернулся Костюк, сильно обеспокоенный. Бараан поймал собаку и привязал на поводок.
— Кажется, косолапый ушел. Поедем посмотрим — куда.
В полном молчании спустились, остановились у кромки чащобы.
— Он сейчас в ярости. Смотри в оба, Вик.
В лесу, меж деревьев, чернели два корневища. След уходил туда. Пошли по следу. Только сделали несколько шагов, как те самые корневища деревьев ожили и двинулись прямо на них. Казалось, тайга, горы, небо — все обрушилось враз па охотников.
— Виктор, беги! — крикнул Бараан и сам кинулся по косогору.
Не помня себя, улепетывал без оглядки, пока не натолкнулся на лежащее поперек дерево. Обернулся — и обмер от страха: перед ним на задних лапах стоял огромный медведина и, широко разевая пасть, лязгал зубами. Уже слышно его зловонное, как падаль, дыхание. Охотник вскинул ружье и направил дуло прямо в пасть зверя. Медведь поднял лапу, чтобы ударить. Чуть-чуть не достал, со злостью крутанулся на месте.
«Ты — хозяин тайги, я — ее сын. Давай сразимся!» — унял дрожь в руках охотник.
И в следующий миг, когда зверь с яростью прыгнул на него, выстрелил ему под мышку — в сердце! Медведь упал к ногам, но тотчас снова поднялся, заслонив тушей все небо — яростный, непримиримый. И тут раздался лай. Костюк! Собака вцепилась в ляжку раненого зверя. На помощь ей подоспел Хартыга. «Не один!» — охотник уже смело прицелился и выстрелил. Медведь замертво упал.
— Молодец, Костюк! Спасибо тебе! Спас хозяина! — Бараан был до слез благодарен верной собаке. Пес тоже радовался, бегал вокруг человека, ласкался к нему, виляя хвостом. Потом подбежал к поверженному медведю, принюхался к нему, брезгливо фыркая от страшного запаха.
Прибежал Виктор. Издалека увидел дядю, живого и невредимого. Бледный, как береста, парень подошел ближе.
— Слава богу, Виктор, живыми остались… Вот… собаке спасибо.
— Вы сами-то как… ничего?
— Собаку ты отпустил?
— Нет, сама, видно, вырвалась.
— Смелая! Бросилась прямо на зверя. Раненый, он очень опасен.
Охотники понемногу отошли от пережитого страха, успокоились, со смехом вспоминали всю историю с косолапым. Радость, что не случилось беды, брала верх. Принялись разделывать тушу.
— Крепкий медведь, как сама тайга.
Часть мяса повесили за ветви кедра, чтобы сохранилось, остальное погрузили на оленей и поехали на стоянку. В дороге весело, неумолчно болтали.
— Дядя, а сколько вам было лет, когда вы первый раз поехали на охоту?
— О-о, парень, с десяти лет я стал выезжать с охотниками. Помогал им: следил за костром, оленями, потихоньку выучился стрелять белок. Охоте меня учили дед Шончуур, Сываан Дамдын, Анчы Дамдын и другие. Теперь я промышляю в этих же местах на Одугене, Серлиге, Арга-Бельдире, по Большому и Малому Баш-Хемам. Эти места научили меня многому. Был один случай лет пятнадцать тому назад.
Как-то пошел я на охоту. И наткнулся прямо на дедушку. Я с ужасом смотрю на него, а он с не меньшим ужасом — на меня. Оба растерялись. Наверное, я первым опомнился: вскинул ружье, нажал на курок. А сам глаза закрыл. Когда их открыл — не поверил: лежит косолапый без движения… Сейчас мне за сорок. За все время в тайге больше тридцати мишек повидал. Но такого огромного, как этот, еще не встречал…
Самбуевич встретил охотников с похвалой:
— Хоок! Вот здорово! Настоящие звероловы, идете по стопам своих отцов-дедов!
Азас — Адыр-Кежиг — Кызыл, 1957 — 1969 гг.
Архивы Байки и рассказы — www.oir.su
Байки и рассказы70
«А она рабочая?» Мой вопрос носил характер скорее риторический, ибо ответ был известен только одному участнику торгов, который угрюмо помалкивал, косясь
Байки и рассказы72
«Меня угнетает отсутствие событийности…». «Накаркаешь! — гость с удовлетворением оглядел обгрызенную куриную ногу. — Собаке можно отдать?
Байки и рассказы97
Случилось это в те далекие времена, когда охотились больше по совести, нежели с оглядкой на штраф. Накануне открытия скоротечного весеннего сезона загородные
Байки и рассказыА вот у меня был случай…85
На краю поселка, на высоком берегу, на холодный ветреный вечер, из окон дома струится свет. Дома тепло, светло. За столом Коля Рыжий, хозяин дома, дядя
Байки и рассказыКак я прожег маскхалат82
Дело зимой было. Пошел я со случайным товарищем на зайцев. Все как положено: лыжи, рюкзаки с обедом и термосами, ружья, конечно. Накануне приобрел я хороший
Байки и рассказыПоцелуй шатуна115
Мой давний знакомый Николай Михайлович Пашалов — человек бывалый, из коренных таежников. В какие только дебри не заносила его нелегкая, с кем не сводила
Байки и рассказыВерхом на поросенке. Часть вторая123
Однако на следующий день кум не смог поехать, так как помогал по хозяйству шурину. Пришлось ехать одному. На всякий случай взял с собой побольше бензина
Байки и рассказыВерхом на поросенке. Часть первая115
Приходилось читать истории о том, как охотники то на волке, то на лосе покатались. Нечто подобное было и со мной, только прокатиться мне довелось на поросенке.
Байки и рассказы91
Вот и подкралось незаметно долгожданное время. Осень отдождилась и разбежалась по тайге разнаряженными девками, которые поманили холеными наманикюренными
Байки и рассказыБесхвостая лисица117
«Мяу-мяу», — произносит младшенькая внучка, поглаживая выделанную лисью шкуру и принимая ее за кошечку. Всем хорош трофей: и пушистый, и красивый, только хвост.
Байки и рассказыКак в пасть не попасть121
Широкие деревянные лыжи с креплением в виде потасканных ремешков то и дело проваливались в снег. Миллионами жемчужных брызг струился на землю лунный свет
Байки и рассказы293
Осенний сезон догорал, а в морозилке зябко ежился один-единственный чирок-свистунок. Кобель Туз откровенно хандрил. Его нерастраченный пыл изредка обрушивался
Байки и рассказыОхотничьи истории159
Прочитал как-то небольшой рассказ Н. Астафьева «Нарушитель традиции», и так нахлынули воспоминания, что захотелось непременно поделиться ими на бумаге.
Байки и рассказы162
Скудная на дичь осень рождала богатые фантазии: на болотах мерещились силуэты пролетающих уток, в лесу — скользящие меж ветвей рябчики. И только на лугу
Байки и рассказы137
Много грибов и ягод бывает не каждый год, временами природа тоже отдыхает. Но уж если будет хороший урожай… то сразу начинается бум, схожий с паломничеством
Байки и рассказы«Червонцы» на тропе169
В геологоразведке в советское время иногда оказывались люди совершенно случайные. Одни поддавались романтическим иллюзиям, другие устремлялись в погоню
ОхотаВальдшнепы в эпоху «цифры»126
Оторвался от компьютера и очнулся от этой ежедневной рутины, в какую за какие-то три года превратился мой бизнес после перевода все и вся в виртуальное пространство.
Байки и рассказы165
Деда Геню, вернее Геннадия Трофимовича — нашего заядлого абагурского охотника, я знал давно. Частенько встречался с ним на близлежащих от поселка озерах
Байки и рассказыМедведицу с медвежатами злить нельзя837
Историю мне эту рассказал бывший сотрудник ИТУ (исправительно-трудового учреждения) Валентин Трофимович Гречишников, в прошлом медик. Уйдя на пенсию, он
Байки и рассказы«А лес стоит такой загадочный…»167
Я разменял восьмой десяток и на охоту с рыбалкой практически не выбираюсь: — ноги уже не те, отбегали. Да и выросли мои сыновья — первые помощники
Рассказов об охоте в тайге. сказки тайги
Рассказы об охоте в тайге — яркая страница отечественной литературы. Можно сказать, что писатели, создающие такие произведения, продолжают традицию охотничьей прозы, ставшую популярной в XIX веке.
Со школы всем жителям нашей страны знакомы «Записки охотника» И. Тургенева, в которых классик рассказывает об интересных случаях, произошедших с ним в лесу.
Специалисты
Однако, помимо людей, занимающихся охотой в свободное время, в качестве хобби, есть и те, для которых добыча мяса диких животных и птиц, а также меха является постоянным источником дохода, основным занятием в жизнь.
Таких специалистов называют охотниками. О них тоже написано много литературных произведений. А иногда сами выступают авторами.
Один из таких писателей — Леонид Максимов, сборник рассказов, изданный несколько лет назад, посвящен лесу, тайге и охоте в Красноярском крае. В этих рассказах автор, помимо занимательных случаев, произошедших с его героями, подробно описывает жизнь и будни этих бесстрашных, отважных людей.Один из таких персонажей — охотник-охотник Михаил Кириллович, которому на момент описываемых событий было чуть больше сорока лет.
Этот потомственный охотник в деревне, где он жил, все звали Кирилич, подчеркивая уважение к отцу. Родитель героя Кирилл Ильич был известным торговцем и умер от ран, полученных в результате неожиданной встречи с медведем. Рассказ Леонида Киселева «Жизнь на охотничьей избе» целиком посвящен работе и правилам жизни в тайге, которые Кирилич разработал для себя.Герой произведения воевал в Великой Отечественной войне, пройдя ее до последнего дня. Говоря об этом времени, он задавался вопросом, как ему удалось выжить. Михаил Кириллович предлагает рассказчику переночевать в своем доме. Автор переходит на работу в коллектив геологов, занимающихся изучением местных залежей веществ, пригодных для использования в атомной отрасли. Параллельно с работой в бригаде автор наблюдает за жизнью Кирилыча.
Год Охотника
В одном из рассказов о тайге Максимов описывает цикл занятий охотника, которые повторяются из года в год.Самое важное время для Михаила Кирилловича длится с октября по декабрь. Это так называемая «зимовка».
Это выглядит следующим образом. Охотник живет в доме, стоящем на опушке леса. Каждый день он ходит за зверем. Зимой жилище практически полностью засыпано снегом. Поэтому понять, что здесь живут люди, можно только покурить из трубы, которая возвышается над сугробами. Обогревает дом с помощью печи, которая сделана из американских топливных бочек.Его верх выровнен так, чтобы туда можно было поставить чайник с водой.
Одежда охотника
В этом рассказе об охоте в тайге подробно описана одежда, в которую переодевается главный герой, отправляясь на рыбалку в лес. Особого внимания заслуживают брюки и обувь. Они сделаны из шкуры лося, большей частью взятой с ног зверя. Такой материал используется, потому что лось в течение своей жизни проводит много времени, стоя в прохладной воде.
Именно поэтому его кожа приобретает такие ценные качества, как водостойкость и морозостойкость.Охотник часто употребляет в пищу черемшу, так как этот овощ полезен для здоровья желудка.
Добыча меха
В охотничьих рассказах этого автора, и в частности в рассказе о зимовке, упоминается главное отличие охотника-любителя от профессионала. Последний должен выполнить условия подписанного им контракта, то есть передать определенное количество меха организации, в которой он работает. Поэтому ему приходится производить более десятка беличьих шкур и одну соболью каждый день, а иногда даже ходить на медведя и лося.
Охота на медведя
Этот хищник — одно из самых опасных и злых животных на земле.
Следовательно, процесс добычи такого животного заключается еще и в том, что за несколько месяцев до начала сезона охоты исследуют маршруты, которые оно обычно берет. Эти следы, как правило, определяют по медвежьим следам — деревьям, о которые хищник высовывает когти.
Верные друзья
Чтобы успешно охотиться в тайге, человеку нужны помощники.Чаще всего это четвероногие друзья, то есть животные. Были такие соратники и у Кирилыча, главного героя рассказов Леонида Максимова.
По словам автора работы, охотник относился к своим питомцам как к части себя. Каждый раз, возвращаясь с охоты, он в первую очередь заботился о том, чтобы накормить лошадь и собаку, а затем и о своем пропитании. Интересна история появления каждого из этих питомцев у Михаила Кирилловича.
Залив
Такое прозвище получила лошадь, появившаяся в доме отца главного героя перед Второй мировой войной.В те годы Советский Союз проводил политику коллективизации. Земельные участки, домашние животные и многое другое, что чиновники считали излишним, отбирали у состоятельных людей. Семья хотела конфисковать и Гнеди.
Охотники остались бы без лошади, если бы молодой Михаил не придумал спасительную идею. Он решил взять коня на зимовку в глухую тайгу. План сработал. Сотрудники спецслужб не смогли добраться до охотничьего жилища.Таким образом, конь был спасен и прослужил Кирилычу не один десяток лет.
Верный пес
Рассказы об охоте на Максимова в тайге содержат множество эпизодов, связанных с домашними животными. Особый интерес для читателя представляет отрывок, в котором рассказывается, как зверолов Михаил Кириллович завел собаку.
Однажды в тайге встретил охотника-охотника. Их лодка вместе с необходимыми припасами затонула. Кирилыч вернулся с поля и не почувствовал нужды в большом запасе продуктов и патронов.Поэтому он доставил и людям, и людям в беде. Представителей этой национальности отличает то, что они всегда с благодарностью вспоминают оказанную им помощь. Поэтому через некоторое время эти самые охотники, прошедшие через мемориал Кирилыча, подарили ему щенка прекрасного сибирского хаски. Эта собака, как и конь Гнеди, на долгие годы стала для него другом и помощником в нелегком деле таежных промыслов.
Главный герой этой охотничьей истории в год, когда его младший друг, автор произведения, провел с ним зиму, успешно завершил свой охотничий период, как и положено, в декабре.Новый год он традиционно встретил в кругу близких людей, для которых приготовил традиционные подарки — куски медвежьей туши. Раннюю весну охотник посвятил другому занятию. Сделал лопаты для снега. С наступлением первых теплых дней начал охоту на тетерева. Кирилыч делал это уже не с помощью ружья, а с помощью силков.
Так называемые петли из ниток, предназначенные для этой цели. В этой игре уловить не так уж и много.
Автор произведения заканчивает свое повествование на унылой ноте.Спустя некоторое время он приехал в родное село, но ему сказали, что Михаил Кириллович сейчас живет в городе. Он пошел к нему, и эта встреча была последней. Вскоре охотник скончался от сердечной недостаточности.
Это был последний человек в этих краях, кто профессионально занимался данным ремеслом.
Худой психолог
Ужасные рассказы о тайге также очень распространены в отечественной литературе, поскольку охота неразрывно связана с риском для жизни, с неожиданными встречами с хищниками и попаданием в сложные условия для выживания.Об одной из этих работ и пойдет речь.
Таежные рассказы Геннадия Гусаченко — явление в литературе, о своеобразии и самобытности которого говорил выдающийся писатель Виктор Астафьев. По его словам, в них продолжается традиция красочного описания природы Уссурийского края, которую заложил Виктор Арсеньев.
Однако автор романа «Дерсу Узала» не рассматривал в своих книгах такие проблемы, как загрязнение окружающей среды и браконьерство.Этих катастроф в его годы еще не было. Им Гусаченко посвятил несколько своих рассказов. Помимо рассмотрения текущих вопросов, произведения этого автора, по мнению Астафьева, ценны тем, что внутренний мир его героев раскрывается так же искусно, как в рассказах Василия Шукшина. К тому же герои Гусаченко сильно напоминают черты характера Шукшина.
Например, рассказ «Верх» посвящен проблеме человеческой подлости и неблагодарности.
Далее будет краткое содержание этой работы.
В тайге
Рассказ от первого лица. Автор рассказывает, как однажды он пришел к своему старому другу, служившему егеря. Он увидел в доме принадлежности для охоты на уток и обидно сказал, что хочет позвать друга с собой в тайгу. Ему нужна помощь в ремонте дома, в котором он живет, когда охотится зимой. Рассказчик ответил, что непременно поедет со своим другом. Во время остановки в одной из деревень они увидели возле магазина старую голодную собаку без передних зубов.Охотник узнал в ней собаку, некогда принадлежавшую его напарнику. Он рассказал историю о том, как Волчок (так звали это животное) однажды спас жизнь своего хозяина.
Когда они собирались с напарником на охоту, он купил хаски. А возле дома, в будке на цепи, жила дворняга, которую плохо кормил, а иногда даже бил.
Когда мужчины ушли в тайгу, эта собака упала с поводка и их догнала. Рассказчик решил взять собаку на охоту.
В итоге породистый питомец плохо себя показал: его хозяин застрелил всего одну белку. Дворняга была отличным помощником. Благодаря ей автору рассказа достались белки и горностай. Во время той поездки в лес случилось непредвиденное, ужасное происшествие. Поэтому это произведение можно отнести к разряду страшилок.
На друга рассказчика напал медведь, который сидел в дупле дерева и вышел из своего укрытия, когда охотник ударил его по стволу.
Спасение
Когда ужасный зверь вышел из дупла, он напал на охотника.И снова чистокровный пес его подвел. Она трусливо убежала, а дворняга Волк храбро схватился за шкуру врага, напавшего на его хозяина. Медведь, спасаясь от боли, причиняемой собачьими зубами, убежал. Хозяина спасли, но собака получила от сурового хищника многое. Его передние зубы были выбиты.
Охотник, нашедший друга собаки, решил, что он заблудился, и предложил отвезти его домой, тем более что у его напарника была пасека, и он мог угостить их свежим медом.Когда друзья пришли к хозяину собаки, он, вопреки ожиданиям, не обрадовался, что его питомец и спаситель нашли. Он угостил их медом только после того, как егерь намекнул ему, что он ждал такого подарка. Прощаясь, мужчина сказал, что пусть будет так, оставьте собаку дома.
Этот неблагодарный человек теперь, кроме пчеловодства, занимался производством обуви. Охотник приказал ему унц. Мастер обещал сделать их к следующему приезду друга. Так расстались.После похода на зиму, вернувшись, друзья снова навестили пчеловода. На этот раз он не стал приглашать их в дом, а принес на улицу пару новых сапог. Мастер сказал, что верх топа пошел на чистовую отделку обуви. Охотник упрекнул его, сказав, что собака верой и правдой ему служила. На это неблагодарная охотница ответила, что теперь она тоже пригодится в качестве обуви. Охотник не взял унтов и, не попрощавшись, ушел. На такой грустной ноте заканчивается эта охотничья история.
Шатун
Перечисляя таежные сказки о лесу, о тайге, стоит упомянуть еще одного автора, многие работы которого посвящены этой теме. Этот писатель — Иван Полковников. Один из его рассказов — «Жезл» — также посвящен встрече с таежным бурым медведем.
Повествование здесь от первого лица. Автор рассказывает о приглашении на охоту, которое он получил от местного жителя — представителя одного из коренных народов Уссурийского края.Он с радостью согласился принять участие в совместном приключении, так как слышал об охотничьих способностях людей этой национальности.
Вместо знакомого охотника на встречу с рассказчиком пришла его жена, которая совсем не говорила по-русски. Она жестом пригласила его сесть в сани. Итак, они пошли по дороге к охотничьим угодьям. Во время этого путешествия было сделано несколько остановок, во время которых женщина угостила автора традиционной едой северных народов. Когда приехали на зиму, то, вопреки ожиданиям, знакомства тоже не было.Женщина показала гостю, где находятся припасы, необходимые для жизни и охоты, и оставила. Автор несколько дней сомневался: придет к нему кто-нибудь в лесную глушь или нет. Но это время он потратил не зря: охотился много и успешно. Наконец появился помещик.
На обратном пути автора рассказа о таежных охотниках тоже сопровождала только женщина. Однажды, когда она ненадолго отошла от стоянки, на нее напал медведь. Автор вовремя приехал и застрелил хищника.Так заканчивается таежный рассказ Ивана Полковникова.
Поддельный зверь
Но не только рассказы о захватывающих приключениях охотников полны рассказов об охоте в тайге. В них много забавных эпизодов, вызывающих улыбку, а иногда и смех читателя. Например, в одном из таежных рассказов классика жанра Виктора Арсеньева описан случай, когда автор принял за тигра упавшее дерево, лежащее на лесной поляне. Он искал встречи с таежным полосатым хищником, о котором слышал.И однажды он принял то, что хотел, за реальность. Во время встречи со «зверем» у рассказчика не было при себе оружия. Поэтому ему пришлось долго сидеть в кустах, прячась от воображаемого тигра. В конце концов мужчина увидел охотника, который, пройдя поляну, легко перешагнул через «хищника».
Помимо рассказов, представленных в этой статье, есть и другие достойные внимания произведения о приключениях в тайге.
Альваро Лаиз рассказывает историю охоты на сибирского тигра
Перед фотографами, которые рассказывают об исторических событиях, стоит непростая задача.Не фотографируя, они должны искать доказательства того, что что-то произошло, находить следы прошлого здесь и сейчас и составлять повествование с помощью изображений, более символичных, чем буквальных.
Создавая свою новую книгу, The Hunt , испанский фотограф Альваро Лаис взял на себя задачу вспомнить замечательную серию событий, произошедших два десятилетия назад в одном из регионов Сибири, на Дальнем Востоке России. С помощью своих изображений, рассказов местных охотников и небольшого количества архивных фотографий Лаиз рассказывает историю о браконьерах по имени Марков, который ранил большого амурского тигра-самца, но не смог его убить.В течение следующих трех дней животное выследило Маркова, убило и съело его, а затем убило еще одного человека, прежде чем группе охотников во главе с защитником природы удалось выследить и уничтожить тигра.
Однако, как ясно показывает книга Лайза, смерть Маркова — это всего лишь глава в истории, уходящей корнями далеко в прошлое. Похоже, это подтверждает легенду об удэгейцах, людях, живущих в этой части Азии, которые традиционно полагались на охоту как на средства к существованию. Вместо того, чтобы охотиться на амурского тигра, удэгейцы сосуществовали с ними.Они верят, что охотник, нападающий на тигра, пробуждает мстительный дух Амба. Это Амба убила Маркова.
Лаиз жил и работал в Венесуэле в 2012 году, когда он впервые прочитал The Tiger , бестселлер автора Джона Вайланта об этом инциденте. Лайза увлекла эта история, и он начал думать, как бы рассказать ее с помощью фотографий. Но он чувствовал, что это «безумная идея», на реализацию которой у него не будет ресурсов, поэтому он отказался от нее. Затем в 2014 году он получил финансирование от Fundación Cerezales.Он предложил проект тигра, и учреждение согласилось поддержать его работу. Он также выиграл IdeasTap и Magnum Photographic Award в 2014 году, что обеспечило второй раунд поддержки проекта.
След тигра на снегу. Охотники-удэгейцы показали Лаизу, как искать информацию в следах тигра и других мелких деталях. © Альваро Лаис
Лайз считает, что отчасти он смог получить финансирование, потому что история десятилетней давности оставалась очень актуальной. «Это очень актуальная тема: человек против природы», — отмечает он.Экономическая борьба подтолкнула Маркова к браконьерству, а черный рынок тигров обещал высокую награду за риск, на который он пошел. Незаконные рубки леса в регионе привели к сокращению среды обитания тигров и подвергли их браконьерству, что поставило под угрозу их вид. «Это своего рода идеальный шторм для них обоих», — говорит Лайз. «Я думаю, что это очень специфическая история, но также это история, которая может резонировать [со многими людьми], и которую можно рассказывать время от времени, и она по-прежнему [значима]».
Свою первую поездку в регион он совершил в 2014 году, фотографируя в национальных парках, созданных как заповедники дикой природы.Однако он чувствовал, что ему нужно нечто большее, чем изображения тайги, северных лесов, населенных тиграми. Он вернулся зимой 2015 года и полтора месяца прожил с местными охотниками и их семьями. На его портретах изображены удэгейские и русские охотники в тайге и в их домах. Они изображают защитников природы тигров и нападают на выживших. Мы видим вдову Маркова и читаем ее отчет о смерти мужа. Несколько изображений намекают на анимистические верования удэгейцев.На двух фотографиях изображены охотники, стоящие с оленьими черепами, поднятыми перед их лицами, как маски, из-за чего они кажутся оленеводами.
В фотографиях Лайза есть аспект сотрудничества. Его подданные позволяли ему входить в свои дома или охотиться с ними. Они позировали его фотоаппарату и указали на мелкие, важные детали, например, как следы на снегу показывают размер и вес тигра и насколько быстро он движется. «Когда вы снимаете эти небольшие сообщества, доверие — это все, — говорит Лайз.Он смог заслужить доверие людей, неоднократно навещая их. «Это ненормально — какой-то парень из-за границы приходит и задает вопросы, а он никогда не возвращается», — объясняет он. «Когда ты вернешься, у тебя будут другие отношения» с кем-то. «Они отчасти уважают вас, потому что видят, что вы делаете все возможное, чтобы рассказать эту историю».
Лайз использовал диктофон, когда брал интервью у своих подопытных. Некоторые рассказывали истории о выживших после нападений тигров или о потере близких, но большинство из них разделяли удэгейские легенды и притчи.Эти истории составляют текст книги. «Нам нужно было как-то сбалансировать историю, — говорит Лайз, — между фактами и фантазией, между фактами и вымыслом, между тем, что вы можете видеть, и тем, что вы не можете».
Он работал с дизайнером Рамоном Пезом над созданием книги, в которой используются различные бумажные материалы и развороты, чтобы создать впечатление, побуждающее зрителя внимательно рассмотреть детали (см. Видео-превью книги здесь). «Этот проект называется« Охотник », но книга называется Охота , потому что и дизайнер, и я хотели сделать из него своего рода игру для зрителя.”
Лайз сосредоточен на том, чтобы рассказывать подробности, и открывает нечто фундаментальное о жизни людей в этом регионе. «По моему опыту, детали имеют значение, выжить или нет, дожить до следующего дня [или нет]», — объясняет Лайз. Он чувствовал, что у удэгейцев другое мировоззрение, с которым он когда-либо сталкивался. «Они не хищник, а тигр, поэтому им приходится с этим жить». Он наблюдал, как их уязвимость и их отношение к окружающей среде влияют на их легенды и предания.«Когда вы узнаете, что не главный хищник в этой местности, вы начинаете думать по-другому. Вы можете охотиться, но вы также можете охотиться ».
Хотите еще PDN ? Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу рассылку новостей по электронной почте и получать самые свежие новости недели прямо к вам.
Связанный:
PDN’s 30 2018
Новая книга Карла Джонсона исследует Бристольский залив на Аляске
«Terra Systema» Кристины Сили рассматривает экологические системы Земли
Статьи по теме
© Джошуа Дадли Грир
Фотокниги 26 декабря 2019 г.
Фотографы показывают, как они улучшили последовательность, начиная с предложений книг и заканчивая готовыми книгами.
Подробнее »
© Дамиани / фото Waltpaper
Фотокниги 19 декабря 2019 г.
Чтобы представить идею книги издателям, фотографам необходимо понимать, какие расписания интересуют издателей и крупнейшего в мире книжного ритейлера.
Подробнее »
© Шерон Рупп
Фотокниги 16 декабря 2019 г.
Трое опытных профессионалов в области издательского дела говорят, что для заключения сделки с книгой требуется нечто большее, чем просто привлекательная графика.
Подробнее »
Охота в русской тайге — Global Bushlife
Олег живет в глухой тайге, в 130 км от ближайшего населенного пункта. Прошло 30 лет с тех пор, как он начал жить и охотиться у озера Дюпкун. Иногда там остаются и несколько человек, которые приходят ему на помощь по охотничьим делам.
Охота в глухой тайге стала менее прибыльной и намного более сложной, чем когда-то.Но все тяжелые испытания, которые заставляют других отступить, его не пугают.
Олег абсолютно зависим от природы и, кажется, даже стал ее частью — он не злоумышленник, ему место здесь, и он не собирается менять свой образ жизни, потому что это его дом, его работа, его пустыня. Замерзшие реки и озера — это магистрали Олега, когда он едет на снегоходе в хижину и обратно.
Его каюта отапливается небольшой печью, которая называется «бурзуйка». Слово происходит от слова «буржуазия» и по иронии судьбы означает теплую и богатую жизнь.Также его используют для приготовления еды. Всегда чисто и аккуратно, Олег надевает белые перчатки во время жарки мясных пирожков и, как шеф-повар модного ресторана, отдает приказы своим помощникам.
День охотника начинается в 5 часов утра. На рассвете всегда стоит осмотреть хижину, чтобы увидеть, нет ли на расстоянии пули легкой добычи. Если в этот день нет планов на охоту — вскоре после завтрака начинается подготовка к ужину. Вскоре хозяин Олег и его помощники собираются за обеденным столом, как если бы они были одной семьей.
Озеро Дюпкун — место, в котором «цивилизованным» людям будет трудно выжить. Он окружен лесами и горами — плато Путорана, которое занимает большую часть территории Эвенкии. На местном языке «Путорана» означает «плоский, как стол».
«Я не убиваю, я продюсирую», с улыбкой на лице Олег объясняет свой взгляд на охоту.
«Найти его там будет непросто, если вообще возможно. Он прекрасно знает, как выжить в Тайге. Пытаться помочь ему — все равно что помочь оленю или волку », — говорит Константин, товарищ-охотник, живущий в деревне, ближайшей к хижине Олега.
Охота Экология коренных народов Байкала
Сотни тысяч животных ежегодно умирают из-за действий охотников и браконьеров, поставщиков сельскохозяйственной продукции, производителей модной одежды из кожи и меха … Международные конвенции по защите животных усыновляют; В некоторых странах были приняты специальные законы, устанавливающие ответственность за жестокое обращение с животными.
Однако часто кажется, что мы «изобретаем велосипед»! Уникальный опыт уважительного сосуществования человека и представителей животного мира буквально рядом с нами, в охотничьей культуре и традициях коренных народов Прибайкалья — эвенков (тунгусов) и бурят.
Экологические правила охоты коренных народов Байкальского региона
Культное отношение сибирских народов к лесным животным формировалось тысячелетиями. Во многом это было связано с тем, что животные буквально обеспечивали повседневную жизнь коренных жителей Байкала: давали пищу, шкуры животных, материалы для домов, лекарства животного происхождения … При этом на крупных животных велась охота. только ради мяса, а на пушных зверей охотились ради шкуры.Не было понятия «охота ради охоты»! И эвенкийский, и бурятский примеры — интересные примеры не только адаптации человека к очень суровым природным условиям, но и гармоничного и безболезненного «включения» в экосистему региона.
Буряты считали наступление охотничьего сезона знаменательным. Они облачились в праздничные шубы и совершили обряд очищения. Действительно, они не ходили на охоту, а были в гостях у Хозяина тайги, Хангая, хозяина всех зверей и птиц.Буряты считали его величественным седобородым стариком на коне. Хозяин Тайги был добр и милосерден, но только к тем, кто не нарушал его покой. Итак, в тайге были строгие правила поведения людей: соблюдать чистоту и порядок, не шуметь, особенно в лагере. Запрещалось поливать тропы водой, валить деревья возле своих кемпингов, наводить беспорядок, бросать в огонь шерсть или войлок (а также бросать в огонь другие вещи, способные вызвать сильный неприятный запах), петь песни или громко кричать, особенно в период гнездования птиц, поскольку это может отпугнуть их от мест гнездования.
Буряты считали, что Хангай любил слушать сказки, что могло способствовать доброжелательному отношению Хозяина тайги к охотникам. Поэтому сложилась интересная традиция привлечения удачи на охоте: охотники брали с собой в лес сказочников-улигершинов (онтохошинов); эти рассказчики получали долю добычи наравне с охотниками.
Обряд жертвоприношения седобородому старику совершался как до, так и после охоты, причем успешный охотник должен был делить добычу со всеми, с кем встречался на своем пути.И это был не просто «жест доброй воли». Если человек принимал добычу в подарок, казалось, что он разделяет ответственность за пролитую кровь.
Многочисленные охотничьи запреты, суеверия, обряды во многом имели чисто материальные практические корни и были связаны не только с прекрасным знанием образа жизни и повадок животных, но и с особой охотничьей этикой, стремлением людей и дальше обеспечивать себя. еда:
— охотились только на взрослых самцов; убийство женщины считалось злом;
— потомство, потерявшее мать, нельзя было оставить в живых, потому что они были обречены на страшную голодную смерть;
— запрещена охота в местах отела лося, косули и благородного оленя;
— запрещалось начинать охоту, если животные терпели бедствие после засухи, наводнения, гололеда и нехватки кормов.
Буряты считали, что стремление получить обильную добычу нужно ограничивать: нельзя зря убивать животных, оставлять раненую дичь в лесу. Бытовало мнение, что бурятский охотник не должен убивать более 99 медведей за всю свою жизнь. Жадный охотник мог потерять своих детей, что происходило как бы в обмен на животных, убитых сверх меры.
Дань жертвам
И буряты, и эвенки с глубоким уважением относились к животному миру, что, конечно, не случайно.Действительно, по легенде, например, хориские буряты произошли от небесной девушки-лебедя, а первым бурятским шаманом был орел. Многочисленные правила охоты удачно сочетались с требованиями природы; поэтому они естественным образом превратились в своеобразный правовой кодекс тайги.
Отношение к добыче в традициях охоты эвенков чрезвычайно содержательно.
Охотники твердо верили, что животные и рыбы могут понимать человеческую речь. Так что категорически запрещалось говорить неодобрительно даже о самой незначительной добыче, не говоря уже о оскорблении любой добычи.Чтобы заранее не отпугнуть животных, охотники использовали различные аллегории для обсуждения своих будущих действий.
Эвенкийские охотники обязаны уважать убитое животное, даже одевать его только по определенным правилам. Они должны были знать, когда остановиться во всех отношениях. Легенда гласит: «Однажды во время осенней охоты двое эвенков убили столько лосей, что не смогли разделить все туши и поправить их. Им пришлось отказаться от некоторых убитых животных. Хозяин тайги наказал за это охотников.Оба они вскоре заболели и скончались ».
Ценную добычу отметили праздничным обедом. Разговоры охотников во время этого обеда были посвящены только эпизодам последней охоты, к тому же они очень ласково отзывались о добытых животных; Подчеркивалось, что этот ужин был приготовлен в честь «высокого гостя», а перед началом трапезы «высокий гость» был приглашен к котлу.
Голова добытого лося или дикого оленя обязательно приносилась домой для проведения особого обряда, когда голову ставили на почетное место, на специально вышитый коврик, лицом прямо к огню.Ставили сковороду на плиту или огонь, нагревали и бросали в нее жир и в огонь. Голова жертвы и все ритуальные предметы окуривались дымом пригоревшего жира, и охотник обращался к духу-покровителю людей и оленей с просьбой «послать такую жертву еще раз». Только после этого стали резать и варить мясо.
Шкура, снятая с куницы или соболя, была вывешена на видном месте; на ночь снимали шкуру, чтобы посторонние не могли обидеть добычу.
Эвенки верили, что убитое животное возродится в виде другого животного. Поэтому все его останки были тщательно собраны, а затем захоронены или хранились в укромном месте.
Они также уважали пойманную рыбу.
Именно знание образа жизни и привычек животных позволило коренным народам выбирать необходимые условия, объемы и объекты охоты и соблюдать их, не истощая природных ресурсов.
Культ медведя у коренных народов Сибири
Эвенки, проживающие в Забайкалье и Амурской области, называют себя «орочонами» и имеют самый серьезный и многослойный культ медведя.Считается, что каждому орочонскому охотнику разрешено убить строго определенное количество медведей, которое не может быть превышено. Если бы это произошло, охотник лишился бы жизни. Отсюда священный мистический трепет эвенков перед Хозяином тайги. В этом отношении показательна история эвенкийского охотника Александра Ердынеевича Степанова; это было зафиксировано во время одной из этнографических экспедиций:
«Если поймаешь медведя, надо извиниться. Вы должны сказать, что вам жаль, но вам просто нужно немного жира или что-то еще.Действительно, жир лечит. Раньше эвенки охотились на медведя ради сала, мяса не ели, ели только жир и желчь. Конечно, прежде чем убить животное, они помолились и окропил водкой или молоком. Они спросили разрешения бурхана (духа), сказав: «Нандикан, позволь нам взять медведя, не самого Мастера, а обычного медведя». После того, как они убили медведя, они одели его тело; Пришлось сказать, что на самом деле тело не одевали, а медведя щекотали только муравьи.Когда они закончили, взяли все необходимое и закопали мясо, им нужно было положить ветку в пасть мертвого животного, связать ее, а затем положить голову на дерево, чтобы дух животного не преследовал их ».
Обряд орочонов, связанный с головой убитого медведя, полон глубокой языческой символики: эвенки верят, что душа убитого медведя не умирает, а какое-то время остается в лесу, после чего переходит в другое. медведь, и при этом хрупкое естественное равновесие не нарушается.
Эвенки считают, что душа убитого медведя не умирает, а какое-то время остается в лесу, после чего переходит к другому медведю, и таким образом хрупкое естественное равновесие не нарушается.
Интересно отношение бурят к медведю. В бурятском языке есть два способа обозначения медведя: бабагай и гуроохен. Первое слово представляет собой сочетание слов — баабай (отец, предок, праотец) и абгай (старшая сестра, жена старшего брата, старший брат).Известно, что буряты, когда говорили о медведе или просто упоминали животное в разговоре, часто называли его фамилиями: могучий дядя, одетый в шубу; дед в шубе; мать или отец … Кстати, слово бабагай — это общее определение всех живых и умерших старших родственников. Поэтому очень символично, что медведь называется точно так же.
Подобные почтительные имена и восприятие медведя как близкого родственника характерны не только для бурят.Например, хакасы называли медведя аба, ада, ага, апчах, абай, что также означало отец, мать, старший брат, аб дядя и другие термины, обозначающие близкие отношения.
Второе название медведя на бурятском языке — гуроохен. Это уже более «зоологическое» слово. В зависимости от вида медведя называли khara guroohen (бурый или черный медведь) или sagaan guroohen (белый медведь). Вероятно, название этого медведя произошло от общего термина «гуурол», означающего «дикие животные».
Долгое время люди пытались объяснить происхождение медведя историями с основной идеей чудесного или волшебного превращения. Например, в бурятском фольклоре есть два наиболее распространенных варианта: смена облика, происходящая по воле человека, и спонтанная или насильственная смена облика, не зависящая от воли человека.
Одна из самых известных сказок рассказывает об охотнике на медведей-оборотней, который из зависти и враждебности окружающих был вынужден всегда оставаться в животном обличье.Этот мужчина-медведь похищает женщину, и эта пара становится прародительницей всех медведей. Также распространены мифы о том, что происхождение медведя было тесно связано с волей бога (бурхана), который наказывал людей за серьезные или мелкие проступки, превращая их в животных. Интересно, что примером такого проступка является желание человека посмеяться над другими. Еще одними более популярными «поводами» для наказания были жадность и жестокость. При этом вернуться в человеческий облик можно было обычным для сказок способом: через любовь и принятие.Медведь-оборотень из народной сказки «Баабгай-хун» («Человек-медведь») обрел человеческий облик после встречи с женой. Однако, возвращаясь в тайгу, он всегда превращался в медведя.
Бурятские шаманы считали самого медведя шаманом, а также сильнейшим шаманом из всех. В бурятском языке есть выражение: «Хара гуроохен буду элюутей», что переводится как «Медведь выше полета шамана».
Бурятские шаманы часто использовали в своих практиках еловую кору; кору приходилось снимать с дерева, поцарапанного медведем.Такие деревья обычно называли «баабгаин онголхон модон» — «дерево, освященное медведем».
Бурятский народный календарь содержит прямые ассоциации и сходства, связанные с образом медведя. Например, один из зимних месяцев в календаре хориских бурят называется «бурган» и «эхе бурган», что на аларском диалекте дословно означает «большой медведь-самец».
Еще одним свидетельством сакральности образа медведя в традиционной культуре бурят является клятва с использованием медвежьей шкуры.Такая клятва обычно дается вместе с поеданием или кусанием куска шкуры медведя и считается самой обязательной и имеет самые ужасные последствия.
Кроме того, медведь издревле является одним из самых популярных персонажей народных игр бурят. Описание медвежьих игр встречается в записках путешественников, побывавших в Бурятских улусах. Об этом народном досуге, например, писала А. Потанина: «Здесь стараются как можно точнее имитировать все движения этого могущественного животного.Человек, изображающий медведя, показывает сильные челюсти и зубы животного. Этот человек пытается взять зубами разные вещи и унести их в одно место, поэтому медведь помещает в это место всех присутствующих на игре людей. Чтобы игра продолжалась, все, кого схватили за зубы, не должны больше подавать признаков жизни и подчиняться, независимо от того, куда воображаемый медведь хочет поставить человека ».
Окунитесь в тундру в TheHunter: Call of the Wild
Вы охотились среди холмов Хиршфельдена и исследовали знаменитый район озера Лейтон.Теперь будьте готовы встретить самые сложные природные условия во время редкой охотничьей экспедиции в национальный парк Медвед-Тайга. Вдохновленный суровым ледяным ландшафтом Сибири, вы пересечете неумолимую тундру, войдете в пьяные леса и отправитесь в ледяную бухту. Здесь погода может измениться в мгновение ока, и вы окажетесь в снежном вихре и окружены растрескивающимся льдом.
Несмотря на мрачный вид, в национальном парке «Медведь-Тайга» кипит жизнь. Вы найдете такую добычу, как кабарга, северный олень (также известный как карибу в Северной Америке) и дикий кабан.Но бродят и более крупные виды. Величественный лось путешествует по этим равнинам, как и свирепый бурый медведь. Возможно, самое уникальное из всех — охотники в этом заповеднике столкнутся с очень умной и похожей на привидение Рысью.
Открытый мир национального парка «Медведь-Тайга» имеет размеры 25 квадратных миль (64 квадратных километра), таких же внушительных размеров, как Хиршфельден и Лейтон-Лейк-Дистрикт. В нем вас ждет совершенно новое захватывающее повествование с 32 миссиями, 50 побочными миссиями и бесчисленными уникальными достопримечательностями.
Вы играете в роли эксперта по выживанию и охотника, нанятого для помощи Алене Хасавовне и ее научной экспедиции. Помимо того, что Алена является высококвалифицированным климатологом, она родом из местного оленевода, живущего в этом регионе, что дает ей уникальное представление о его проблемах. Экспедиция плохо стартовала, и вам нужно собрать свою группу, помочь местным жителям и убедиться, что все пройдут через экспедицию в целости и сохранности. Но это будет нелегко. Не все — и все — хотят, чтобы вы добились успеха.
Как и в случае с предыдущими платными DLC, игроки, которые сами не владеют контентом, могут бесплатно присоединиться к многопользовательской игре, происходящей в национальном парке «Медведь-Тайга», найдя игрока, которому он принадлежит, и просто присоединившись к их игре. Многопользовательские игры позволяют охотникам соревноваться или сотрудничать — последнее должно оказаться полезным в этом сложном заповеднике. Наконец, квадроциклы (доступные как отдельная покупка DLC), конечно же, полностью функциональны. Вождение по льду доставляет удовольствие и нервничает.
DLC для национального парка Медведь-Тайга уже доступен для theHunter: Call of the Wild для ПК.Получите в Steam.
В течение 40 лет эта русская семья была отрезана от всех человеческих контактов, не подозревая о Второй мировой войне | История
Сибирское лето длятся недолго. Снег задерживается в мае, а в сентябре снова наступают холода, превращая тайгу в ужасающую в своем запустении натюрморт: бесконечные мили непослушных сосновых и березовых лесов, усеянных спящими медведями и голодными волками; горы с крутыми склонами; бурные реки, текущие потоками по долинам; сто тысяч ледяных болот.Этот лес — последняя и величайшая пустыня Земли. Он простирается от самой дальней точки арктических регионов России до Монголии и на восток от Урала до Тихого океана: пять миллионов квадратных миль пустоты с населением за пределами горстки городов, что составляет всего несколько тысяч человек. .
Но когда наступают теплые дни, тайга цветет, и на несколько коротких месяцев она может показаться почти приветливой.Именно тогда человек может наиболее отчетливо заглянуть в этот скрытый мир — не на суше, потому что тайга может поглотить целые армии исследователей, а с воздуха. Сибирь является источником большей части нефтяных и минеральных ресурсов России, и с годами даже самые отдаленные ее части были переполнены разведчиками и геодезистами, направлявшимися в глухие поселки, где продолжается работа по добыче богатства.
Карп Лыков и его дочь Агафья в одежде, подаренной советскими геологами вскоре после того, как их семья была обнаружена заново.Таким образом, это было летом 1978 года на далеком юге леса. Вертолет, посланный в поисках безопасного места для приземления группы геологов, скользил по лесной полосе примерно в сотне миль от границы с Монголией, когда он упал в густые заросли. лесистая долина безымянного притока Абакана, бурлящая лента воды, несущейся по опасной местности. Стены долины были узкими, со сторонами, местами близкими к вертикальным, а тощие сосны и березы, раскачивающиеся в нисходящем потоке несущих винтов, были так густо собраны, что не было шанса найти место, где можно было бы сбить самолет.Но, пристально всматриваясь в лобовое стекло в поисках места для приземления, пилот увидел то, чего там быть не должно. Это была поляна на высоте 6000 футов по склону горы, зажатая между сосной и лиственницей и изрезанная чем-то вроде длинных темных борозд. Сбитый с толку экипаж вертолета сделал несколько проходов, прежде чем с неохотой пришел к выводу, что это свидетельство человеческого жилья — сада, который, судя по размеру и форме поляны, должен был существовать здесь уже давно.
Это было поразительное открытие.Гора находилась более чем в 150 милях от ближайшего поселения, в месте, которое никогда не исследовалось. У советских властей не было никаких записей о том, чтобы кто-либо проживал в этом районе.
Семья Лыковых жила в бревенчатом домике ручной работы, освещенном одним окном «размером с карман рюкзака» и обогреваемом дымной дровяной печью.Четверым ученым, направленным в район на разведку железной руды, рассказали о появлении пилотов, и это их озадачило и встревожило.«Менее опасно, — отмечает писатель Василий Песков об этой части тайги, — наткнуться на дикое животное, чем на незнакомца», и вместо того, чтобы ждать на своей временной базе в 10 милях отсюда, ученые решили заняться расследованиями. Во главе с геологом Галиной Письменской они «выбрали хороший день и положили в рюкзаки подарки нашим будущим друзьям», хотя на всякий случай, как она вспоминала, «я проверила пистолет, который висел у меня на боку».
Когда злоумышленники взобрались на гору, направляясь к месту, указанному их пилотами, они начали натыкаться на следы человеческой деятельности: неровная тропа, посох, бревно, переброшенное через ручей, и, наконец, небольшой сарай, засыпанный березой. -корые емкости с нарезанным сушеным картофелем.Тогда, сказала Письменская,
у ручья находился жилой дом. Почерневшая от времени и дождя избушка была завалена со всех сторон таежным мусором — корой, шестами, досками. Если бы не окно размером с карман моего рюкзака, было бы трудно поверить, что там живут люди. Но они сделали, без сомнения…. Наш приезд, как мы могли видеть, заметили.
Низкая дверь скрипнула, и в дневном свете появилась фигура очень старика, прямо из сказки.Босиком. Носить заплатанную и перешитую рубашку из мешковины. На нем были брюки из того же материала, тоже с заплатками, и у него была нечесанная борода. Его волосы были растрепаны. Он выглядел напуганным и был очень внимательным…. Надо было что-то сказать, поэтому я начал: «Привет, дедушка! Мы приехали в гости! »
Старик ответил не сразу…. Наконец, мы услышали мягкий, неуверенный голос: «Что ж, раз уж вы зашли так далеко, можете войти».
Зрелище, которое встретило геологов при входе в хижину, было похоже на средневековье.Построенный из любых материалов, который попадался под руку, жилище представляло собой не что иное, как нору — «низкую, почерневшую от копоти бревенчатую будку, холодную, как погреб», с полом, состоящим из картофельной кожуры и скорлупы кедровых орехов. . Осмотревшись в тусклом свете, посетители увидели, что это отдельная комната. Он был тесным, затхлым и неописуемо грязным, подпираемым провисшими балками, и, что удивительно, здесь проживала семья из пяти человек:
Агафья Лыкова (слева) с сестрой Натальей.Тишину внезапно нарушили рыдания и стенания.Только тогда мы увидели силуэты двух женщин. Один был в истерике, молился: «Это за наши грехи, наши грехи». Другой, держась за столб… медленно опустился на пол. Свет из маленького окошечка падал в ее широко распахнутые испуганные глаза, и мы поняли, что должны убираться оттуда как можно быстрее.
Ученые, ведомые Письменской, поспешно вышли из хижины и отступили на место в нескольких ярдах от нее, где достали провизию и начали есть.Примерно через полчаса дверь хижины со скрипом открылась, и из нее вышли старик и две его дочери — уже не в истерике, а, хотя и явно напуганной, но «откровенно любопытной». С осторожностью подошли три странные фигуры и сели со своими посетителями, отвергая все, что им предлагали — варенье, чай, хлеб — и пробормотали: «Нам это запрещено!» Когда Письменская спросила: «Вы когда-нибудь ели хлеб?» старик ответил: «Есть. Но они этого не сделали. Они никогда этого не видели ». По крайней мере, он был понятен.Дочери говорили на языке, искаженном жизнью в изоляции. «Когда сестры разговаривали друг с другом, это звучало как медленное, размытое воркование».
Постепенно, за несколько посещений, появилась полная история семьи. Звали старика Карп Лыков, он был старообрядцем — членом фундаменталистской русской православной секты, поклоняющейся в стиле, не изменившемся с 17 века. Преследовали старообрядцев со времен Петра Великого, и Лыков говорил об этом так, как будто это произошло только вчера; для него Петр был личным врагом и «антихристом в человеческом обличье» — то, что, по его словам, было убедительно доказано царской кампанией по модернизации России путем насильственного «отрубания бороды христианам».Но эта многовековая ненависть смешалась с более недавними обидами; Карп был склонен одновременно жаловаться на купца, отказавшегося подарить староверам 26 пудов картофеля примерно в 1900 году.
Положение семьи Лыковых только ухудшилось, когда к власти пришли большевики-атеисты. При Советской власти изолированные старообрядческие общины, бежавшие в Сибирь, спасаясь от преследований, начали все дальше отходить от цивилизации.Во время чисток 1930-х годов, когда само христианство подвергалось нападкам, коммунистический патруль застрелил брата Лыкова на окраине их села, когда Лыков стоял на коленях и работал рядом с ним. В ответ он собрал свою семью и убежал в лес.
Попытки Петра Великого модернизировать Россию начала XVIII века нашли центральное место в кампании за прекращение ношения бороды. Волосы на лице облагались налогом, а неплательщиков принудительно сбривали — анафема Карпу Лыкову и старообрядцам.Это было в 1936 году, а Лыковых тогда было всего четыре — Карп; его жена Акулина; сыну по имени Савин, 9 лет, и Наталье, дочери, которой было всего 2 года. Взяв свое имущество и немного семян, они все глубже уходили в тайгу, строя себе череду грубых жилищ, пока, наконец, не нашли в этом пустынном месте. Еще двое детей родились в дикой природе — Дмитрий в 1940 году и Агафья в 1943 году, и ни один из младших детей Лыкова никогда не видел человека, который не был членом их семьи.Все, что Агафья и Дмитрий знали об окружающем мире, они полностью узнали из рассказов своих родителей. Как отметил российский журналист Василий Песков, главным развлечением семьи было «чтобы каждый рассказал о своих мечтах».
Дети Лыкова знали, что есть места, называемые городами, где люди живут тесненными в высоких зданиях. Они слышали, что есть другие страны, кроме России. Но для них такие понятия были не более чем абстракциями. Единственным предметом для чтения были молитвенники и древняя семейная Библия.Акулина использовала Евангелие, чтобы научить своих детей читать и писать, используя в качестве ручки и чернил заостренные березовые палочки, смоченные в соке жимолости. Когда Агафье показали изображение лошади, она узнала его по библейским рассказам своей матери. «Смотри, папа», — воскликнула она. «Конь!»
Но если изолированность семьи было трудно осознать, то абсолютная суровость их жизни — нет. Добраться до усадьбы Лыковых пешком было удивительно тяжело, даже на лодке по Абакану.Во время своего первого визита к Лыковым Песков, который назначит себя главным летописцем семьи, отметил, что «мы прошли 250 километров, не увидев ни одного человеческого жилища!»
Изоляция делала выживание в пустыне практически невозможным. Полагаясь исключительно на собственные ресурсы, Лыковы изо всех сил пытались заменить то немногое, что они принесли с собой в тайгу. Вместо обуви лепили галоши из бересты. Одежду залатывали и переставляли, пока она не разваливалась, а затем заменяли тканью из конопли, выращенной из семян.
Лыковы пронесли с собой в тайгу грубую прялку и, что невероятно, детали ткацкого станка — перемещение их с места на место по мере того, как они постепенно уходили в дикую местность, должно быть, потребовало многих долгих и трудных путешествий, — но у них было нет технологии замены металла. Несколько чайников хорошо служили им в течение многих лет, но когда ржавчина наконец преодолела их, единственной заменой, которую они могли изготовить, стала береста. Поскольку их нельзя было помещать в огонь, готовить стало намного труднее.К моменту открытия Лыковых их основным продуктом питания были картофельные котлеты, смешанные с молотыми семенами ржи и конопли.
В чем-то, как поясняет Песков, в тайге было изобилие: «Рядом с домом протекал чистый холодный ручей. Из насаждений из лиственницы, ели, сосны и березы было все, что можно было взять… Черника и малина были под рукой, дрова тоже, а кедровые орехи падали прямо на крышу ».
Между тем Лыковы постоянно жили на грани голода.Только в конце 1950-х, когда Дмитрий достиг зрелого возраста, они впервые стали ловить животных ради мяса и шкур. Не имея ружей и даже луков, они могли охотиться, только роя ловушки или преследуя добычу через горы, пока животные не падали от истощения. Дмитрий развил поразительную выносливость, зимой мог охотиться босиком, иногда возвращаясь в хижину через несколько дней, выспавшись под открытым небом при 40 градусах мороза, с молодым лосем на плечах. Однако чаще всего мяса не было, и их диета постепенно становилась все более однообразной.Дикие животные уничтожили урожай моркови, и Агафья вспоминала конец 1950-х годов как «голодные годы». «Мы ели лист рябины», — сказала она,
.корни, трава, грибы, ботва картофеля и кора. Мы все время были голодны. Каждый год мы проводили совет, чтобы решить, съесть ли все или оставить на посевной.
Голод был постоянной угрозой в этих обстоятельствах, и в 1961 году в июне пошел снег. Сильный мороз погубил все, что росло в их саду, и к весне семья была вынуждена есть обувь и кору.Акулина предпочла кормить своих детей и в том же году умерла от голода. Остальных членов семьи спасло то, что они считали чудом: на их грядке проросло единственное зерно ржи. Лыковы поставили забор вокруг побега и рьяно охраняли его днем и ночью, чтобы не допустить мышей и белок. Во время сбора урожая один колос дал 18 зерен, из которых они кропотливо восстановили урожай ржи
. Дмитрий (слева) и Савин сибирским летом.Познакомившись с семьей Лыковых, советские геологи поняли, что недооценили свои способности и интеллект. У каждого члена семьи была отличная личность; Старый Карп обычно восхищался последними нововведениями, которые ученые приносили из своего лагеря, и, хотя он упорно отказывался верить, что человек ступил на Луну, он быстро приспособился к идее спутников. Лыковы заметили их еще в 1950-х годах, когда «звезды стали быстро перемещаться по небу», и сам Карп придумал теорию, объясняющую это: «Люди что-то придумали и излучают огни, очень похожие на звезды. .”
«Больше всего его поразил, — записал Песков, — это прозрачный целлофановый пакет. «Господи, что они придумали — это стекло, но оно мнется!» »И Карп мрачно придерживался своего статуса главы семьи, хотя ему было уже за 80. Его старший ребенок, Савин, справился с этим, представив себя непреклонным арбитром семьи в вопросах религии. «Он был силен верой, но был жестоким человеком», — сказал о нем его собственный отец, и Карп, похоже, беспокоился о том, что случится с его семьей после его смерти, если Савин возьмет на себя управление.Конечно, старший сын не встретил бы большого сопротивления со стороны Натальи, которая всегда изо всех сил пыталась заменить свою мать в качестве повара, швеи и медсестры.
Двое младших детей, с другой стороны, были более доступными и более открытыми для изменений и инноваций. «Фанатизм не был особенно заметен в Агафье», — сказал Песков и со временем понял, что младшая из Лыковых обладала чувством иронии и могла подшучивать над собой. Необычная речь Агафьи — у нее был певучий голос, растягивающая простые слова на многосложные — убедила некоторых посетителей, что она была тупоголовой; на самом деле она была заметно умна и взяла на себя трудную задачу — следить за временем в семье, не имевшей календарей.Она тоже не думала о тяжелой работе, раскапывая вручную новый подвал поздно осенью и работая при лунном свете, когда солнце село. На вопрос ошеломленного Пескова, не испугалась ли она остаться одной в глуши после наступления темноты, она ответила: «Что здесь может сделать мне больно?»
Фотография из российской прессы, на которой Карп Лыков (второй слева) с Дмитрием и Агафьей в сопровождении советского геолога.Из всех Лыковых, однако, любимцем геологов был Дмитрий, непревзойденный любитель природы, знавший все настроения тайги. Он был самым любопытным и, возможно, самым дальновидным членом семьи. Именно он построил семейную печь и все берестяные ведра, в которых хранилась еда. Еще Дмитрий целыми днями вручную пил и строгал каждое срубленное Лыковыми бревно. Возможно, неудивительно, что его больше всего восхищали технологии ученых.Когда отношения улучшились до такой степени, что Лыковых можно было уговорить посетить советский лагерь, ниже по течению, он провел много счастливых часов на маленькой лесопилке, удивляясь тому, как легко циркулярная пила и токарные станки могут обрабатывать дерево. «Нетрудно догадаться, — писал Песков. «Бревно, за которое Дмитрия тратили день или два, на его глазах превратилось в красивые ровные доски. Дмитрий пощупал ладонью доски и сказал: «Хорошо!»
Карп Лыков вел долгую и проигрышную битву сам с собой, чтобы сдержать всю эту современность.Когда они впервые познакомились с геологами, семья приняла только один подарок — соль. (По словам Карпа, прожить без этого четыре десятилетия было «настоящей пыткой»). Однако со временем они стали терпеть больше. Они приветствовали помощь своего особого друга среди геологов — бурильщика Ерофея Седова, который проводил большую часть своего свободного времени, помогая им сажать и собирать урожай. Они забрали ножи, вилки, ручки, зерно и даже ручку, бумагу и электрический фонарик. Большинство этих нововведений были признаны неохотно, но грех телевидения, с которым они столкнулись в лагере геологов
Усадьба Лыковых с советского разведчика, 1980 год.оказался для них неотразимым….На их редкие появления они неизменно садились и смотрели. Карп сел прямо перед экраном. Агафья смотрела, высунув голову из-за двери. Она попыталась немедленно отмолить свой проступок — шепотом, крестясь…. Потом старик помолился усердно и одним махом.
Возможно, самым печальным аспектом странной истории Лыковых была скорость, с которой семья пришла в упадок после того, как они восстановили контакт с внешним миром. Осенью 1981 года трое из четырех детей последовали за своей матерью в могилу в течение нескольких дней друг за другом. По словам Пескова, их смерть не была, как можно было бы ожидать, результатом заражения болезнями, к которым у них не было иммунитета. И Савин, и Наталья страдали почечной недостаточностью, скорее всего, из-за жесткой диеты.Но Дмитрий умер от пневмонии, которая могла начаться как инфекция, которую он заразил от своих новых друзей.
Его смерть потрясла геологов, которые отчаянно пытались спасти его. Предложили вызвать вертолет и доставить его в больницу. Но Дмитрий в крайнем случае не откажется ни от своей семьи, ни от религии, которую исповедовал всю свою жизнь. «Нам это запрещено», — прошептал он перед смертью. «Человек живет для того, что дает Бог».
Могилы Лыковых.Сегодня в живых из семьи из шести человек, одиноко живущей в тайге, осталась только Агафья.Когда все трое Лыковых были похоронены, геологи попытались уговорить Карпа и Агафью покинуть лес и вернуться к родственникам, которые пережили гонения в годы чисток и все еще жили в тех же старых деревнях. Но ни один из выживших не слышал об этом. Они перестроили свою старую хижину, но остались недалеко от своего старого дома.
Карп Лыков умер во сне 16 февраля 1988 года, через 27 лет после смерти своей жены Акулиной.Агафья с помощью геологов похоронила его на горных склонах, затем повернулась и направилась обратно к себе домой. Господь обеспечит, и она останется, сказала она — как и было на самом деле. Четверть века спустя, сейчас ей уже за семьдесят, эта таежная дитя живет одна, высоко над Абаканом.
Она не уйдет. Но мы должны оставить ее глазами Ерофея в день похорон ее отца:
Я оглянулся и помахал Агафье.Она стояла на берегу реки, как статуя. Она не плакала. Она кивнула: «Давай, давай». Мы прошли еще километр, и я оглянулся. Она все еще стояла там.
Источники
Anon. «Как жить по-настоящему в наше время». Странники , 20 февраля 2009 г., по состоянию на 2 августа 2011 г .; Георг Б. Михельс. В войне с церковью: религиозное инакомыслие в России семнадцатого века. Stanford: Stanford University Press, 1995; Изабель Колгейт. Пеликан в пустыне: отшельники, одиночки и затворники . Нью-Йорк: HarperCollins, 2002; «От тайги до Кремля: дары отшельника Медведеву», rt.com, 24 февраля 2010 г., по состоянию на 2 августа 2011 г .; Краморе Г. «В таежном тупике». Сувенироград, nd, по состоянию на 5 августа 2011 г .; Ирина Паерт. Старообрядцы , Религиозное инакомыслие и гендер в России, 1760-1850 гг. Манчестер: MUP, 2003 ; В Асилы Песков . Затерянные в тайге: пятидесятилетняя борьба одной русской семьи за выживание и свободу вероисповедания в сибирской глуши. Нью-Йорк: Даблдей, 1992.
Документальный фильм о Лыковых (на русском языке), в котором рассказывается об изоляции и условиях жизни семьи, можно посмотреть здесь.
.
Ваш комментарий будет первым